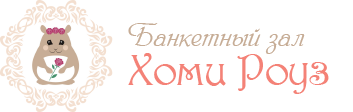Постмодернизм в архитектуре
Постмодернизм – это довольно интересное и запоминающееся стилистическое направление в архитектуре. Впервые, данный термин, был упомянут в 1950году. Только двадцать лет спустя он принял более широкий размах, практически международный. На сегодняшний день стиль постмодернизма считается самым основным во всем мире.
Один из изобретателей постмодернизма в архитектуре, который жив в наши дни – это архитектор из Америки Роберт Вентури. Практически всю свою жизнь он посвятил новому веянию, так как предыдущая архитектура функционализма была ему не по душе. Серые и скучные моменты, не давали покоя и Роберт решил сотворить, что- то прекрасное и неизменное. В своей книге, которая вышла в свет в 1966году, он написал, что мало – это значит скучно, а не так как считалось ранее, что мало – значит большее. Приведя свою точку зрения, Вентури выделил, ведь для каждого человека декор и нефункциональные элементы зданий так же важны, как и функциональные.
Общего определения постмодернизма в архитектуре пока нет. Но его больше относят к тому, что это продолжение модерна или его противоположность. Данное веяние до сих пор рассматривают как что-то возвращенное к остроумию, знаку и орнаменту. Интересные формы зданий, очень эстетичны и разнообразны. Необыкновенная красота соединила множество понимания и желания в один уникальный стиль.
Архитекторы, которые восхваляли стиль модерн, критиковали постмодернизм, считая его очень вульгарным, с беспорядочными украшениями. Стоит отметить, что в новом стиле вместо однотонности и угловатости форм, были применены орнаменты, интересные углы и формы строений. Постмодернисты отвечали тем же, считая, что классический модерн скучен, однообразен, бездушен и безвкусен.
В стиле модерн, который долго держался в мире архитектуры, в большей части использовалось минимум украшений и материала. Но постмодернизм, заменил его изобилием в технологии строительства, так же, использовалось большое количество знаков и углов.
Возвращение к остроумию, можно отметить в старых зданиях, в элементах постройки которых, присутствуют терракотовые декоративные фасады и бронзовые или стальные элементы декора. Такие первые сооружения появились в Америке и только потом перешли в Европу. Можно сказать, что самым важным элементом постмодернизма, было украшение, которое радует душу, даже не завися от того, служит ли оно чем-то функциональным для самого здания.
Главной целью постмодернизма в архитектуре, была задача искоренить все, что принадлежало модерну. Помимо этого использовались различные взгляды нескольких архитекторов для постройки одного здания. Каждый должен был определиться со своим видением и совместить все пожелания вместе, чтоб невозможное получилось красиво и эстетично, радуя глаз и сердце.
Очень часто для того, чтоб придать архитектуре необычных форм, использовался обман зрения. Несколько, подряд стоявших зданий были совершенно однообразными, но в целом составляли, очень интересную и удивительную картину. В мире можно встретить большое количество построек, которые соединены между собой только цветом или орнаментом. Во всем остальном, совершенная разность каждого здания, смогла совместить в себе игру воображения и действительно, получилась уникально.
Несколько, подряд стоявших зданий были совершенно однообразными, но в целом составляли, очень интересную и удивительную картину. В мире можно встретить большое количество построек, которые соединены между собой только цветом или орнаментом. Во всем остальном, совершенная разность каждого здания, смогла совместить в себе игру воображения и действительно, получилась уникально.
В каждой форме архитектуры постмодернизма, можно увидеть большое количество страсти, с которой ее создавали. Взяв в пример музей Абтайберга, мы увидим полное отрицание модернизма. Здесь присутствуют игривые скульптурные формы, сочетание элементов, хотя, здания совершенно разные не только по форме, но и по функциональности. Такие эффекты усиливают поддержание постмодернизма в архитектуре многими выдающимися личностями.
Самые выдающиеся архитекторы постмодернизма: Рикардо Бофил, Джон Берджи, Хельмут Ян, Майкл Грейвс, Филлип Джонсон, Чеззар Пелли, Роберт Штерн, Петер Айзенман, Антуан Предо, Терри Фаррел.
Все яркие примеры постмодернизма в архитектуре, можно увидеть в зданиях:
•Атланта – Музей прикладного искусства.
•Монреаль – Музей цивилизации.
•Торонто – Здание центра связи и почты.
•Сингапур – Комплекс корпоративных зданий.
•Париж – Комплекс концертных залов.
•Новый Орлеан – Пьяцца дИталия.
Главная заслуга постмодернизма – это то, что язык архитектурных форм стал на много красивее и богаче. Образность, выразительность и объемность реабилитировалась, даже в отношении построек, которые требуют только функциональности. Архитекторы, которые работали по техникам постмодернизма, проявили огромное уважение к национальному и историческому наследию, они смогли создать довольно много, замечательных проектов и реконструировали исторические части городов. Самое же главное, архитекторы смогли вернуть архитектуре былую славу процветающего искусства.
15 фото и факты — Рамблер/женский
Ирония постмодернизма: псевдостиль, о котором все молчат
Тип архитектурного дизайна, который мы называем постмодернизмом, не всегда можно узнать с первого взгляда. Модернизм визуально более знаком, а вот его преемник — один из самых странных и наименее понятных стилей XX века.
Модернизм визуально более знаком, а вот его преемник — один из самых странных и наименее понятных стилей XX века.
Поскольку постмодернизм приходит как реакция на модернизм, как страсть к чистым формам, он представляет себя как антагонист и нарушает все правила, призывает к анархии, борется с утончённой классикой и традициями в любых формах.
В 1960-е орнамент и скульптура вернулись на пьедестал. Увы, ещё более ненужные из-за полной несовместимости урезаний строительного бюджета и существования настоящего искусства. С 1960-х до конца 1980-х в мире появилось много зданий в стиле постмодерна, и многие из них до сих пор служат предметом жарких споров и обсуждений.
Постмодерн на смену модернизму
Архитектура модернизма основана на принципе, который впервые сформулировал американский архитектор Луис Салливан: «Форма следует за функцией». Салливан — известный архитектор, наставник Фрэнка Ллойда Райта, но сам не был приверженцем типично модернистского дизайна.
Его заявление хорошо приняли в узких (а затем и в широких) кругах и истолковали как концепцию для всего, что станет позже модернизмом.
Форма действительно выполняла свою функцию, но архитектура в стиле модернизм пренебрежительно относилась к деталям — здание «очищали» от всех якобы избыточных элементов, украшений. Несмотря на определённое признание, которое модернизм получил в первой половине XX века, его всегда критикуют за отсутствие индивидуальности. Да, Ле Корбюзье говорил, что «дом — это машина для жизни», но уже через пару десятков лет все задавались вопросом — а действительно ли мы хотим жить в машинах?
Постмодернистская архитектура как вызов
Как любое постдвижение, в архитектуре постмодернизм стремится бросить вызов или ответить на тренд, словно в первую очередь показывая несовершенства своего предшественника. Мы говорим о новых элементах постмодернизма — именно о том, что напрочь отсутствует в модернизме — об орнаментах, сложных формах, некоторой витиеватости и даже театральности. Критики модернизма и поклонники постмодернизма называли такую современную архитектуру с проблесками этнической или тематической мысли «настоящей, перспективной» и максимально «нативной».
Постмодернизм оказался стилем, не приспособленным к реальности. Из-за инноваций и стремления к декоративности основа зданий уступала в практичности даже своему предшественнику — модернизму. Эстетическая часть в дизайне фасада (а иногда и в его причудливой форме) была настолько ироничной и сюрреалистичной по сравнению с фоном, где использовались готовые формы, ячейки, блоки зданий, что выглядела откровенно вульгарно.
Постмодернизм часто толкуют как безрассудную, упрямую форму отрицания модернизма и оппозиции ему. На самом деле это всего лишь здоровая попытка пересмотреть любимую догму модернистов. Благодаря ей мы узнали, «как делать не надо», и наконец-то осознали минусы самого модернизма, которые были не менее реальны, чем неуклюжесть постмодерна.
Постмодернизм в Москве: яркие примеры
Постмодернизм в Москве не так распространён, как модернизм или конструктивизм, тем более примечательны примеры зданий в этом стиле. Рассмотрим некоторые из них.
Новый корпус Военно-политической академии им. Ленина
Ленина
Новый корпус Военно-политической академии им. Ленина построен в 1989 году по проекту архитектора Виталия Гинзбурга в сотрудничестве с другими советскими архитекторами. Академик АН СССР и лауреат Нобелевской премии по физике, он имел особый взгляд на архитектуру и будущее городской среды. В Москве по его проекту построено много общественных зданий, но главной его страстью всегда была физика. Новый корпус Военно-политической академии им. Ленина стал одним из примеров архитектуры постмодернизма в Москве и стал популярен даже за рубежом. Интересно, что у здания нет дверей на парадных фасадах.
Здание Российской Академии наук построено в 1990 году, хотя продолжалось с перерывами 23 года. Оно отлично просматривается с Воробьёвых гор и даже из центра Москвы. Его иногда называют «зданием с короной» или «золотыми мозгами», так как здесь работают лучшие умы столицы — в Государственной академии наук РФ, крупнейшем в стране центре фундаментальных научных исследований.
Здание администрации города Чехова
Один из самых ярких примеров постмодернизма можно найти в Чехове Московской области. Необычное для административного здания остекление, кубическое крыло асимметричной формы и отсылки к конструктивизму в дизайне боковых фасадов выглядят примечательно.
Необычное для административного здания остекление, кубическое крыло асимметричной формы и отсылки к конструктивизму в дизайне боковых фасадов выглядят примечательно.
Философия постмодернизма: путь в никуда
Философия и своеобразная эстетика постмодернизма придаёт городской среде более аутентичный, тематический облик благодаря нестандартным решениям и необычному подходу. Отсутствие конкретной тематики, сюжета или стилистики компенсируется насыщенностью образа. Важно, что создаваемый образ — ироничная версия городской среды.
Например, в Нью-Йорке и Питтсбурге небоскрёбы в стиле постмодернизм после возведения выглядели как сюрреалистичное убежище Бэтмена в Готэме, а в Лас-Вегасе здания в этом стиле копировали архитектуру со всего мира, отражая весьма примитивное восприятие «тематичности».
Вся философия постмодернизма строилась на противостоянии модернизму как «безликому» стилю, поэтому постмодернизм оказался таким заметным со своей игрой формами и орнаментами. Архитекторы-постмодернисты брали тематику для зданий отовсюду, будь то городская легенда, религиозный образ, местная архитектура, поэтому их проекты оказываются иногда противоречащими самим себе.
Сегодня мы видим, что такая философия не предоставляет условий для развития архитектуры, а скорее заводит её в тупик — в рамках противостояния модернизму что-то принципиально новое придумать невозможно.
Постмодернизм существует ради самого себя и по сути деструктивен. Он искажал рисунки, символы и орнаменты, а затем перешёл к спонтанной экспрессии, огрублению фактур и рельефов, образам чистой агрессии и распада. Самое удивительное, что в зданиях в стиле постмодернизм, которые в отличие от модернизма провозглашали тематическими, напрочь исчезал смысл самого сюжета и нивелировалась его значимость. А вот манера оформления, элементы конструкции выходили на первый план.
А что потом? Деконструктивизм и Заха Хадид
В отличие от деконструктивизма, который вошёл в моду уже в 1980-е, постмодернизм был хаотичным, рассеивающим внимание, комбинированным и почти тотально анархическим, тогда как деконструктивизм стал более целенаправленным, центрированным и жанровым.
Деконструктивизм стал более утончённым, практичным, он использовал необычные детали и оригинальный подход к формам только для того, чтобы добиться оригинального образа здания, не эксплуатируя его при этом для создания тематичности.
Такие архитекторы, как Рем Колхас (Rem Koolhaas) и Заха Хадид (Zaha Hadid), Фрэнк Гери (Frank Owen Gehry), Ма Янсунь (Ma Yansong из MAD architects) и многие другие легендарные последователи деконструктивизма, считают, что сегодня форма должна соответствовать функции, а не насаждать тематику или идеалы.
Читайте также:
Что такое энергоэффективный дом и стоит ли его строить
Стили дизайна интерьера: 10 модных направлений
Пассивный дом: что это такое — на реальном примере
И.А. Добрицына «От постмодернизма к нелинейной архитектуре» Гл.9
Добрицына И.А. От постмодернизма — к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 416 с.
9. РОССИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ
Свобода языкотворчества в российской архитектуре 1990-х
Выход из системы, четко ассоциирующейся с несвободой,
— из-под жесткого диктата тоталитарной власти, из экономического ущемления
сферы архитектуры, доведших профессию почти до полного
исчезновения, — вызвал поначалу эйфорию свободы.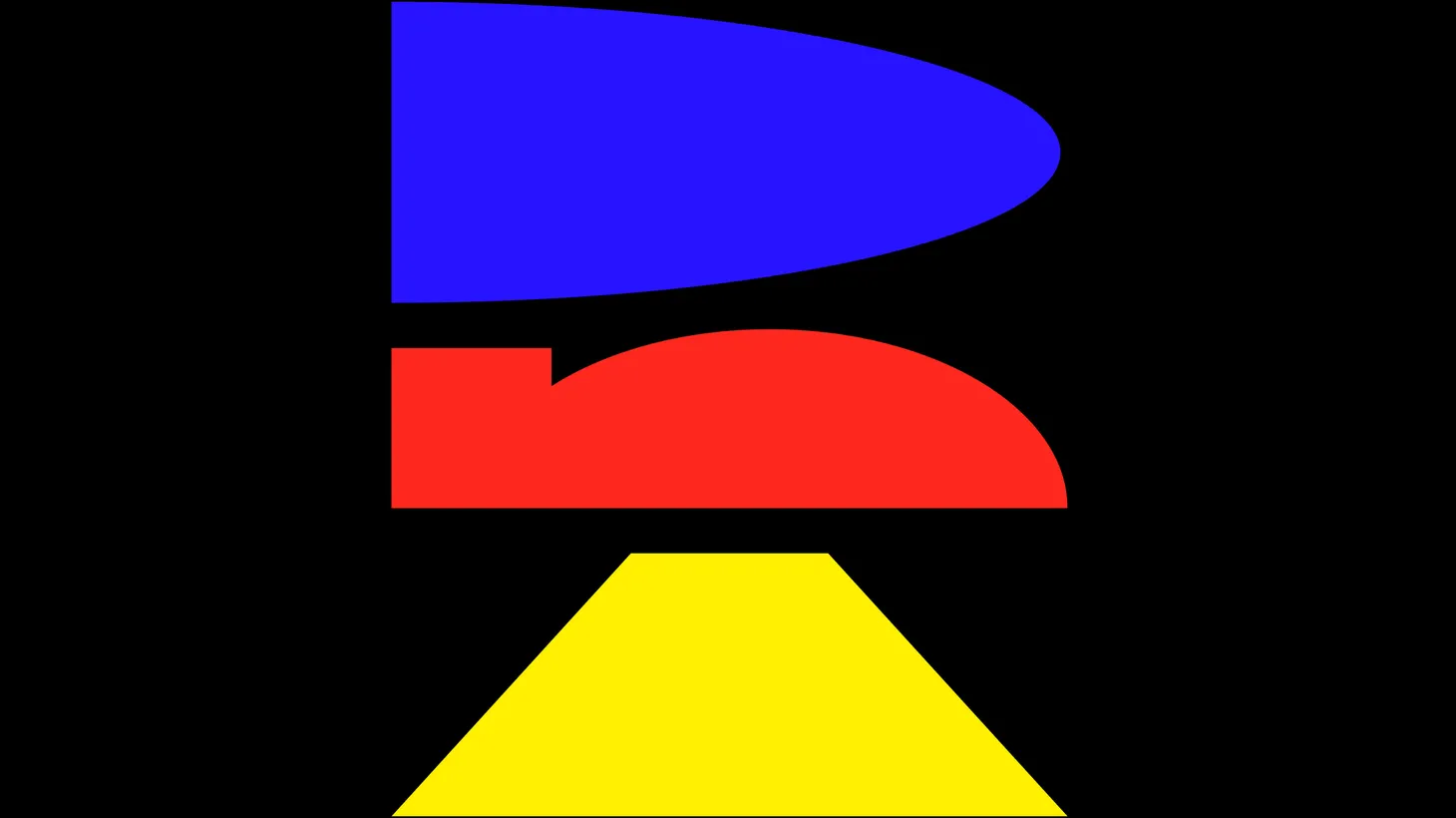
В сложном пучке свобод и несвобод, внешних и внутренних, пришедших в российскую архитектурную практику в 90-е годы, следует выделить, на наш взгляд, главное — возможность свободного языкотворчества, персональной свободы формального поиска, не стесненного рамками какой-либо эстетической доктрины. Обретение этой свободы произошло почти спонтанно, просто в силу поворота внешних событий и в силу внутренней готовности российского архитектора принять вызов постсовременности.
Мир постсовременности, которому мы стали вдруг так
открыты, родился не так давно. Он появился в результате мощного
парадигматического сдвига последней трети XX века и начал новый отсчет времени,
затронув проблемы экологии, переустройства политических и технократических
структур, внедрения глобальных коммуникативных связей, перестраивания дискурсов
идеологии, ломки социальных структур. Российская культурная ситуация 90-х, как
это ни парадоксально, хоть и с запозданием, но попадает по целому ряду
признаков как бы в эпицентр явления, именуемого постсовременностью, оказавшись
как бы в нескольких временах сразу как в сфере культуры, так и экономики,
идеологии, рыночных отношений.
Российская культурная ситуация 90-х, как
это ни парадоксально, хоть и с запозданием, но попадает по целому ряду
признаков как бы в эпицентр явления, именуемого постсовременностью, оказавшись
как бы в нескольких временах сразу как в сфере культуры, так и экономики,
идеологии, рыночных отношений.
И потому архитектурное творчество и проектную стратегию, родившуюся на фоне столь специфической культурной ситуации, следует, видимо, в первую очередь со
343
поставлять
с самой этой ситуацией — со знаком времени, с постсовременностью, сущность
которой, как на Западе, так и в России, состоит в феерической эклектике, в
соединении порой несоединимого, и уже во вторую очередь — с западной
архитектурной школой, построенной на постмодернистской ментальности. В эклектическом пучке свобод и несвобод, полученных архитектором,
своеобразно переплелись противоположности: возможность конструктивного диалога
с частным заказчиком и феномен анонимного заказа, возникшего в связи с
развитием девелопмента; тенденция к свободному персональному дискурсу и
тенденция к обезличиванию архитектора, заключающаяся в архивировании едва
зарождающихся проектных идей в электронных каталогах и сопряженная с этим
ранняя коммерциализация молодых архитекторов. Неоднозначна пока свобода,
дарованная компьютерным проектированием, заменившим живую рукотворную работу с
формой, детерминированная заданностью набора элементов, их по преимуществу
модернистской стилистикой, неадекватной гибкостью инструментария. Техногенные
эксперименты пока в маргинальной зоне, проба сил связана с виртуальными
инсталляциями.
Неоднозначна пока свобода,
дарованная компьютерным проектированием, заменившим живую рукотворную работу с
формой, детерминированная заданностью набора элементов, их по преимуществу
модернистской стилистикой, неадекватной гибкостью инструментария. Техногенные
эксперименты пока в маргинальной зоне, проба сил связана с виртуальными
инсталляциями.
Причастность российского архитектора к постмодернистской генетике тоже весьма своеобразна. Российская архитектура не выстраивала собственной школы постмодернизма в 70-80-е годы в силу социально-политических обстоятельств, не строила собственной концепции постмодернизма и в 90-е годы, в период затухания западного постмодернизма, точнее, его спокойной стадии. Однако она испытывала в последнее десятилетие XX века сильное влияние его стратегии, этики, культуры в целом и весьма легко впитывала вольности постмодернизма, осваивая его творческий метод.
Западный постмодернизм — это, как известно, мощное
культурное течение, определившее тип художественной культуры всей последней
трети XX века.
Российский архитектор принял поворот в культуре 90-х как разрешение на свободу языкотворчества, но пришел к ней иным путем, нежели западный архитектор.
344
Постмодернизм, будучи
сложносоставным культурным феноменом, явился нам поначалу, в 70-е годы, в
образе «тихой» идеологии средового подхода, сместив интерес архитектора с
парадной части города, его каркаса, на рядовую, тканевую, застройку,
практически уравнивая их в правах и покусившись, поначалу теоретически, на их
традиционное противопоставление.
В 90-е годы влияние постмодернистской
философии и этики повлекло за собой отмену любой претендующей на универсальность
эстетической (и идеологической) доктрины, и архитектор получил целый букет
внутренних свобод: свободу выбора индивидуальной философии, свободу персональных
эстетических предпочтений, возможность своего этического выбора по отношению к
эволюционирующему социуму, свободу устройства своего миропорядка в локальных
пределах проектной концепции.
Новое в профессии к 90-м годам, как на Западе, так и в России, проросло из
этики постсовременности: суть ее в том, что идеалы и вкусы не навязываются
коллегам. Согласно теории американского философа-прагматиста Ричарда Рорти, в
современном мире непозволительно браться за совершенствование кого-либо или
чеголибо, кроме себя1. Постмодернистская этика так и
предписывает: каждый имеет право на построение собственного универсума.
345
Однако постмодернистская стратегия, стимулирующая языкотворчество, своеобразна: это и постоянный внутренний диалог архитектора с формой, и постоянная работа с архивом образов, и постоянное обновление выбора образных прототипов ради их интерпретации, деконструкции. Это стратегия, стимулирующая производство образов, умножение числа языков, авторских почерков. Существование архива и его пополнение- необходимое условие жизни постмодернистской проектной стратегии. Постмодернизм, если угодно, можно расценить как инструмент рыночной стратегии. «Невидимой рукой» называл Адам Смит эту особую власть рынка. «Невидимая рука» требует расширения образной палитры архитектуры и перманентного ее обновления. И власть эта посильней амбиций властителя любого ранга.
Архитектор чувствует себя творчески свободным, если четко представляет себе свою роль и свое место в расстановке сил, владеет методом, созвучным эпохе.
Главные особенности поэтики архитектуры, ее метода,
родившиеся после ухода со сцены классического модернизма, вытекают из стратегии
постмодернизма. Феноменальная особенность постмодернистского творчества —
использование чужого или своего другого, нагнетание диалогического напряжения
ради создания нового образа, высказывания нового смысла. Здесь нет традиционной
преемственности, но нет и отказа от истории, здесь есть парадоксальный выбор
прародителей, выбор родословной во вселенском фонде — ради рождаемой
принципиально новой формальной линии, авторского почерка.
Феноменальная особенность постмодернистского творчества —
использование чужого или своего другого, нагнетание диалогического напряжения
ради создания нового образа, высказывания нового смысла. Здесь нет традиционной
преемственности, но нет и отказа от истории, здесь есть парадоксальный выбор
прародителей, выбор родословной во вселенском фонде — ради рождаемой
принципиально новой формальной линии, авторского почерка.
Поэтика постмодернизма пришла в мир как метапоэтика, как поэтика стиля стилей, а потому является поэтикой не стиля, а эпохи в целом, вбирая все стилевые течения последних трех десятилетий. Поэтому переходы от постмодернизма 70-х к деконструктивизму 80-х и позднему постмодернизму 90-х можно расценивать лишь как смену питательной среды, смену прародителей, столь необходимую для жизни самой постмодернистской стратегии, для пополнения приемов, обогащающих ее поэтику.
Постмодернизм как эстетическое явление своеобразно
приживается на российской почве. За западным постмодернизмом тянется шлейф
эпатирующих лозунгов его первого этапа — 70-х годов: говорящая архитектура,
двойное кодирование, эстетизация хаоса, странное смешение высокохудожественного
с внехудожественным, ставших непопулярными к 90-м годам и на Западе и у нас. Все это, в том числе трудно усваиваемая семиотизация
архитектурного дискурса, рождает двойственное отношение российских архитекторов
к самому факту своего существования в сложной системе постмодернистской
культуры. С одной стороны, наблюдается стремление дистанцироваться от неустойчивого
и как бы временного состояния постмодернист
Все это, в том числе трудно усваиваемая семиотизация
архитектурного дискурса, рождает двойственное отношение российских архитекторов
к самому факту своего существования в сложной системе постмодернистской
культуры. С одной стороны, наблюдается стремление дистанцироваться от неустойчивого
и как бы временного состояния постмодернист
346
ской эстетики с ее программной эклектичностью, а с другой стороны, очевидно желание попробовать свои силы в безграничном поле возможностей.
Кроме того, постмодернизм не очень-то понятен российскому
заказчику. В самом деле, кто, к примеру, станет заказывать хаос, беспорядок как
главную концепцию проекта интерьера квартиры? Заказывают классику или экзотику.
Архитектор принимает такой заказ, но немедленно начинает экспериментировать как
постмодернист, как творец, не сдерживаемый узами предписанного стиля. И здесь,
может быть, уместно вспомнить слова Вячеслава Иванова, адресованные художнику:
«…заказчик хочет не узнать в исполнении собственного замысла». .. «он заказывает
себе неожиданность и удивление» … «он мнит себя наездником и желает от коня
буйства и пыла»2. Несмотря на то что культурная
концепция постмодернизма не прожита на генетическом уровне, все же новые контуры
профессиональной культуры, как бы расширенные постмодернистской стратегией,
безусловно, приняты. И удивить заказчика постмодернистски ориентированный
архитектор, безусловно, может.
.. «он заказывает
себе неожиданность и удивление» … «он мнит себя наездником и желает от коня
буйства и пыла»2. Несмотря на то что культурная
концепция постмодернизма не прожита на генетическом уровне, все же новые контуры
профессиональной культуры, как бы расширенные постмодернистской стратегией,
безусловно, приняты. И удивить заказчика постмодернистски ориентированный
архитектор, безусловно, может.
Но вот овладение диалогическим методом постмодернизма — весьма непростая задача. Чтобы вести критический диалог с каким-либо объектом-прототипом, необходима интуиция формы — классической и модернистской архитектоники — и способность к их творческой деконструкции. Довольно быстро обнаружилось, что языкотворчество в архитектуре в эпоху постмодернизма — занятие элитарное. В конце XX века и на Западе, и у нас оно было доступно немногим избранным — тем творцам, культура и интуиция которых ассимилировала и прорастила в себе саму сущность движения формопорождающей мысли предшествующих эпох. Для перехода к новому диалогическому методу особенно ценным оказался опыт непосредственно предшествующей эпохи модернизма — и та варварски-языческая энергия первых формотворческих бунтов начала XX столетия, и то пришедшее позже кристальное чувство формы, проявленное мастерами модернизма. Это чувство свободно рожденной формы и развило особый талант языкотворчества в архитектуре — «с чистого листа». Талант свободного творчества проявился несмотря на то, что вызревал в период укрепления весьма жесткой модернистской эстетической доктрины, парадоксальным образом использовав ее же дисциплинирующую составляющую.
Действительно, эпоха модернизма, начавшаяся футуристической атакой на традиционный, поступательный ритм смены стилей, подготовила появление творца особого типа, принадлежащего к избраннической породе языкотворцев, и произвела отбор тех, кто мог возглавить это, по сути, элитарное, духовно-аристократическое движение, длительное время властно притягивавшее человеческие умы к идее миропреображе
347
ния. Этап зрелого модернизма был необходимой ступенью качественного роста особого типа профессионала — архитектора-языкотворца.
В опыт модернистского по духу формообразования «с чистого листа» российская архитектура внесла весомый вклад в 20-е годы. Но она как бы пропустила важнейшую стадию развития и закрепления тенденции персонального права на языкотворчество, права мастера, позволяющего себе занимать властно-агрессивную позицию жизнестроителя не только в теории, но и во всем объеме практики. В России отсутствие технических и экономических возможностей, амбиции тоталитарной власти стали причиной того, что развитие профессии шло по окольному пути в течение нескольких десятилетий (условно говоря, между временем Константина Мельникова и Александра Ларина). Они остались пропущенными для опыта языкотворчества, хотя и принесли короткий по времени взлет эстетизма в интерпретации классики.
В 30-50-е годы западный зрелый модернизм уже демонстрировал миру красоту чистой геометрии, развившись от сухого рационализма до элегантной и полной значений монументальной образности. Постепенно закрепившаяся иконография стиля Миса и Корбюзье в массовой профессиональной деятельности стала объектом подражания, выступая в роли канона. Конформность не способствовала свободному метафорическому поиску в рамках стиля, но все же общее оживление метафорического поиска создавало фон для прорастания новой образности. В те же 30-50-е годы
348
в России, постепенно изолирующейся от общеевропейского и мирового архитектурного процесса, утверждался сталинский ампир с его риторикой власти и пафосом социалистического уклада, избравший формой архитектурного дискурса классицистическую иконографию (регрессивную для послевоенных лет форму историзма), демонстрирующий принципиальную несовместимость с авторской свободой метафорического, образного поиска. Метафора жила, но не выходила за пределы дозволенных смыслов и могла служить лишь средством дополнительной выразительности.
В период позднего модернизма 60-70-х годов на западе на фоне созревания внутреннего контрдвижения против нивелирующей господствующей стилистики наметился новый этап метафорического брожения сознания, что на формальном уровне отразилось в повышенной экспрессии форм, взволнованности простой геометрии. Примечательно то, что одновременно в отечественной практике в период сурового утилитаризма 60-70-х годов шел процесс, прямо противоположный западному. Происходило насильственное вытеснение из архитектуры художественного начала, торможение присущего архитектурному творчеству метафорического поиска практически до полного его угасания. В эти годы появлялись лишь единичные работы, отличающиеся скрытой или очевидной метафоричностью, использованием метафоры на уровне замысла.
Чуть позже, в 70-80-е годы, метафорическое, образное мышление российского архитектора нашло своеобразный выход вне собственно архитектурной практики в движении «визионерской архитектуры». Проекты «бумажников» — в форме вербальной и изобразительной притчи — произведения самодостаточные и предназначенные для многозначной интерпретации воспринимающего, что, кстати, показало наметившийся принципиальный поворот профессиональной ментальности в сторону интерпретационной поэтики и нового понимания архитектуры как языковой игры. Бумажные проекты — особая форма размышлений о том, какое множество идей бытийного содержания могла бы выражать с помощью метафоры архитектура, не будучи столь скованной экономикой и идеологией.
Одной из первых заметных отечественных работ в духе западного популистского постмодернизма 70-х была постройка в 1988 году кафе «Атриум» (авторы — бывшие «бумажники» А. Бродский, И. Уткин, Е. Монахов). Архитектор и теоретик архитектуры Евгений Асе, живо откликнувшийся на это неординарное тогда событие, подчеркнул свободную игру авторских метафорических посланий: «Основанные на тонкой интеллектуальной игре, экзистенциональные метафоры развертываются в пространстве с помощью архитектурных цитат, аллюзий, символических форм, перспективных игр,
349
перевертывания привычных смыслов и понятий. Потрескавшийся мрамор «Атриума», бархатные колонны, гротескные фигуры, античные надписи — все это не столько стилистические реплики, сколько компоненты развернутой метафоры. От ностальгии по ушедшей великой культуре до пародии на интерьеры сталинской архитектуры — диапазон ее смыслов»3. Постмодернистская метафора (составная, многоуровневая, развернутая система кодов) неоднозначна на этапе замысла. Многообразна россыпь метафор при восприятии и интерпретации архитектуры постмодернизма.
Своеобразие поэтики архитектуры, складывающейся во второй половине нашего столетия, состоит в развитии весьма тонкой интерпретационной стратегии уже на самом этапе замысла. Понимание архитектуры как языка позволяет архитектору обращаться к собственной авторской интерпретации самых различных культурных текстов ради создания особого метафорического «сплава» (иначе — системы кодов), на котором строится образ произведения. Повышенно эмоциональное восприятие российским архитектором радикальных перемен, произошедших за сверхкороткий срок, мешает ему плавно войти в мировой архитектурный процесс. Но, безусловно, весь период 90-х годов XX столетия уже был отмечен кардинальными переменами в проектной сфере. Проектный поиск открыт для эксперимента с метафорой. Архитектурная практика, захваченная потоком «постмодернистской» свободы, обнаруживает весьма высокий уровень метафорического мышления, способствующий появлению немыслимого прежде внешнего разнообразия построек. Часть новейших сооружений может быть соотнесена с современной тенденцией к интеллектуальной метафорической образности архитектуры.
В современных условиях невероятного усиления активности российской архитектурной практики лакуны начинают восполняться в своеобразной и как бы сжатой форме. Властные амбиции неомодернистов сглажены, эзотеричны. Очевидно, что творцы, исповедующие эстетику чистой геометрии, принадлежат уже новой эпохе, когда интерес к этой эстетике сплавляется с чутким прислушиванием к новым технологиям, дающим новые импульсы формообразования, смешивается с пробой сил в стиле хай-тек, с деконструктивистскими и минималистскими опытами. Нескрываемый интерес архитектурной элиты к эстетике модернизма причудливо сочетается с одновременной пробой сил в формообразовании в духе позднего, небунтарского, постмодернизма 90-х: именно к этой стадии западного постмодернизма позволили нам примкнуть повороты нашей истории и экономическое оживление в сфере архитектуры.
Опасность, подстерегающая современного российского архитектора, вовлеченного
в постмодернистскую культурную ситуацию, заключается в отсутствии общест
350
венно значимых ценностных ориентации на фоне неохватной широты возможных источников вдохновения, безграничной свободы собственного выбора. В такой ситуации трудно выйти на путь инноваций. При обобщенном взгляде на творческие устремления профессионала просматриваются контуры двух основных путей, ведущих к формальному обновлению архитектурного языка, два фокуса тяготения в движении к авторской самоидентификации, к утверждению авторизованного синтаксиса. Один из них хорошо известен: это следование за дискурсом непрерывно прогрессирующей, в основном западной, технологии. Такой путь стал возможен в условиях мощных инвестиций в строительство. Типологически с ним связана по преимуществу деловая сфера. Здесь царит хай-тековское великолепие с примесью элегантных вариаций на тему деконструктивизма и едва заметных пассов в сторону постмодернистской комбинаторики, исторических реминисценций. Другой фокус тяготения — постмодернистское по сути и устремленное к собственной культурной истории движение, предполагающее в своем предельном выражении работу со «вселенской тканью знаков» и «континуумом цитат». Близкое контекстуализму, традиционализму, оно представляет собой род симбиоза, комбинаторики, монтажа новейших формальных поисков, построенных на достижениях современной технологии, с прежде рожденными формами. На волне эстетических исканий 90-х в России, как и на Западе, можно было обнаружить тяготение к неоклассике. В этот период российский архитектор опирался
351
на мировой опыт и был вовлечен в деконструктивистскую игру-диалог с архитектурой как текстом. Источники вдохновения, восхищения и критики он зачастую находил (и до сих пор находит) непосредственно в региональном опыте — русского модерна, русского конструктивизма, классики, допетровского русского стиля XVII века и даже «сталинского ампира» и русской избы. Следует отметить еще один путь — поисковый и перспективный. К нему тяготеют, например, начинания лаборатории, организованной Евгением Ассом. Работы лаборатории — это эксперимент почти в маргинальной зоне, как бы в стороне от бурного архитектурного процесса. Это обращение к истокам — элементам формы, языку пространства, природным качествам материала, воздуха, света — ради прочтения скрытых в них актуальных смыслов и переведения их в значащие тексты. В философской позиции группы архитекторов — участников лабораторных опытов — и в их проектах улавливается внимание к концепции американских минималистов 50-60-х годов, к японской «эстетике тишины». Эксперимент лаборатории выдержан в духе характерного для западной мысли современного поиска самих принципов рождения новой формы. Начиная с 1997 года, когда образовалась компания «АСК аркитектс» (Е. Асе, Т. Калинина, Дж. Макадам), у экспериментаторов появилась возможность реализовать многие идеи на практике. Целый ряд проектов компании, например проект Белой квартиры на Новом Арбате (Москва, 1998), выразительно показывают движение в сторону минималистской эстетики.
Среди множества примеров хорошей архитектуры стоит выделить работы архитектора Александра Асадова, которым присущ высокий интеллектуализм. Качества выразительности образных решений, как правило, основаны на обращении к метафорическому замыслу, что помогает выстроить свой формальный язык, проявить свой «почерк», обособить синтаксис. Контекстуальная метафора, наиболее созвучная тенденции всего московского и — шире — российского строительства, была использована Асадовым и его коллегами в весьма незаурядном проекте административного здания на Нижней Красносельской улице (1994). В метафорическом замысле была учтена близость, визуальная доступность особого периферийного городского сюжета с подъездными железнодорожными путями к Казанскому вокзалу. Этот особый привкус «вокзальности» места с его приподнято-беспокойным состоянием ожидания приезда или отъезда, связанностью с околовокзальными событиями угадан авторами и взят в качестве поэтической основы метафорической образности здания, смысл которой улавливается прежде всего в традиционном для железнодорожных построек сочетании красного кирпича с белой штукатуркой. Облик вестибюля воспринимается почти как цитата, заимствованная из типовой стилистики интерьера
352
вокзала небольшого городка. Образ российской дороги возникает как живая картина в стеклянной раме наклонных окон четвертого этажа — комнаты переговоров, откуда видны движущиеся неподалеку поезда и церковь Покрова в Красном Селе. Дискурсивные особенности этой работы Асадова позволяют соотнести ее с современным общеевропейским движением критического регионализма (термин Кеннета Фремптона), ставящего задачей художественную трансформацию местных традиционных образов среды, архитектуры, культуры при дозированном использовании черт архитектуры иных культур и одновременно соответствие уровню новейших формальных исканий. Позиция, близкая к критическому регионализму, в которой тонко прочувствован баланс местных и общемировых тенденций, вызывает наибольшую симпатию большинства российских архитекторов, как столичных, так и периферийных.
В целом же очевидно, что российский профессионал вовлечен в поток свободного языкотворчества. Он свободен, если осознает правила игры, заключенные в постмодернистской стратегии, и если освоил новый диалогический метод формообразования. Свобода языкотворчества — одна из форм внутренней профессиональной свободы. Она пришла к нам одновременно с новой культурной и экономической ситуацией, при которой архитектор оказался во власти рыночных отношений. Природа рынка капризна. Однако есть надежда, что это именно та власть, которой свойственно отбирать талантливое, оригинальное, значительное и отметать посредственное.
Постмодернистский опыт неостилей в московской архитектуре
Особой чертой московского строительства начала 90-х было настойчивое обращение к эстетике исторического модерна. Данное явление объясняется, на наш взгляд, несколькими причинами. Главные из них — влияние московского контекста, ностальгическое чувство разрыва эволюционного движения российской культуры и, кроме того, умонастроение профессионала 90-х, схожее с умонастроением архитекторов модерна на рубеже XIX-XX веков.
Известно, что уникальность мироощущения конца XX — начала XXI столетия описывается сегодня рядом теорий, среди которых теория постмодернизма и постмодернистской культуры является основной. При всей условности названия, постмодернизм, как известно, понимается как глобальное состояние цивилизации нескольких послед
353
них десятилетий, как вся сумма культурных настроений и философских тенденций этого периода.
Художник и архитектор конца XX начала XXI века, признает он это сам или, наоборот, активно отрицает, принадлежит к постмодернистской культурной тенденции, и его творчество сопряжено с особым пониманием архитектуры как профессии значений. В архитектуре, как и в каждой гуманитарной области, в последние десятилетия XX века стал складываться новый теоретический каркас, изменился характер и правила интеллектуальной практики, внедрился новый категориальный язык, создалось новое концептуальное пространство. И тенденция эта имеет продолжение. Вся громадная толща культурного слоя архитектуры становится достоянием рефлексирующего, играющего ума. При этом система побуждающих эстетических импульсов, воздействующих на творца, много шире исторических накоплений. И можно констатировать, что современная эстетика выходит на высшую точку сложности: сложные симбиозные соединения, «гремучие пучки» формальных сплавов, рождающихся на уровне актуальной визуалистики, сигнализируют о мощной энергии художественного сознания. Однако укрепление позиций высочайшей сложности, усложненности смыслов, значений, языковых формул рождает противоположное и адекватное по силе стремление к простоте, соизмеримой с человеком, — в этом и состоит драма нашего времени.
Этим и объясняется, в частности, пик драматического напряжения, отраженный в современном способе выражения архитектурной идеи — современном архитектурном дискурсе, отстаивающем право на свободу и сложность, на намеренное обострение конфликта ради невиданного прежде способа его разрешения. И на исходе XIX столетия, и в последней трети XX (с разрывом примерно в сто лет) архитектура переживает особый переломный момент — от рациональности к иррациональности. Действительно, исторический модерн противопоставил себя рациональности классики, постмодернизм рациональности «современного движения», модернизма. Отречение такого рода не может не иметь общих черт некоего иррационального бунта. Но после столь краткого сопоставления двух культурных явлений, разделенных почти столетием, важно отметить и главное их отличие: если исторический модерн ориентирован на сильное чувственное переживание мира, то постмодернистская ментальность, характерная для нашего времени, опирается прежде всего на высокий интеллектуализм. Так, рожденное постсовременностью эстетическое кредо, построенное на поэтике диалогизма, выступает не только как спонтанный способ усиления творческого воображения, но и как осознанный метод, близкий к методу научному.
354
Множественность стилевых тем исторического модерна, его свойство открытости как стилевой системы (незавершенности, неисчерпанности) и возможность дать новую точку ветвления в поиске формы, безусловно, должно импонировать новой ментальности, исповедующей принцип свободы и сложности. Панэстетизм модерна, использование нескольких стилевых тем в одной постройке — все это перекликается с идеями постсовременной архитектуры, допускающими игру в поле множества эстетик, в сплавах искусственного с природным. Язык исторического модерна привлекает российского архитектора и по другим причинам. Так, естественным представляется стремление обрести энергию творчества в той точке, которая сегодня оценивается как одна из вершин эстетических исканий сравнительно недавнего прошлого. Раскованность линии, бесконечное разнообразие форм выражения художественных идей, отступление от стандартов, правил и канонов — те черты исторического модерна, которые наиболее привлекательны для профессионала, вставшего перед проблемой свободы выбора после долгих лет вялого утилитаризма и весьма скудно проявленного на российской почве модернизма.
Исторический модерн активно повлиял на характер образной картины Москвы в конце XIX — начале XX века, изменив ее до неузнаваемости. «На месте флигельков восстали небоскребы, и всюду запестрел бесстыдный стиль модерн», — писал Валерий Брюсов.
В средовой сценографии исторического модерна выделяются две черты: цементирование сложившейся, средневековой по сути, органической структуры города и создание бесконечного разнообразия физиономического рисунка окружения. Тем самым модерн способствовал сохранению родовых особенностей образной картины города, для которого характерны отсутствие строго выверенных рациональных крупномасштабных пространственных построений, богатство зрительных впечатлений, «пестрота» и нарядность сооружений.
Мотивы московского исторического модерна отразили все внутренние искания стиля. Здесь мы находим таинственный раннеготический модерн, трепетный ар нуво, внушительный и завораживающий пластицизм, упруго-сильный неорусский стиль, узорчато-затейливый «кирпичный» стиль, солидно-элегантную пластику в духе Валькота.
Все эти сюжеты модерна вызывают у просвещенного современника ассоциации, связанные с утраченным пафосом роста, развития и интенсивного строительства города, поднявшего Москву за два-три десятилетия перелома XIX-XX веков от уровня провинциальной столицы до уровня европейского столичного города. Искусствоведение небезосновательно оценивает культурную суть исторического модерна
355
как явление антибуржуазное. Но уж так сложилось исторически, что эпоха буржуазного строительства, обогатившая архитектурную среду Москвы, прошла под знаком модерна. И, удалившись во времени, исторический модерн ассоциируется не только с богатым частным заказом, но и вообще с привлекательными сторонами буржуазной свободы, частной инициативы и т. п. Модерн и стиль жизни, им организованный, выступают в современном сознании как своеобразная гарантия полноценности, полнокровности, яркости существования.
Рубеж XX — XXI веков видится как весьма драматический период в развитии архитектуры Москвы. Заявлено капитальное обновление столичного центра. Реконструкции и реновации происходят на фоне передела собственности на недвижимость, вложения громадных инвестиций в строительство, перестройки отношений заказчика и архитектора. Не касаясь социальной стороны вопроса, отметим кардинальные изменения в отношении к тканевой структуре центра. Городской центр застраивается по принципиально новой схеме, в которой внутриквартальная пространственная инфраструктура по существу главенствует над уличным пространством. В реновационном строительстве бывшие внутриквартальные пустыри и заброшенные дворики используются для устройства высокотехнологичных «климатизированных» структур, закрытых внутренних пространств, образующих главное ядро постройки или группы построек, — типа атриумов, давно и широко используемых на западе для престижных торговых, деловых, гостиничных и жилых комплексов.
При этом консервируется и обновляется облик «фасадических декораций». То есть роль сохраняемых уличных фасадов состоит теперь в удержании образного строя исторического городского интерьера. Истинная жизнь новых комплексов спрятана за цепочкой тщательно воспроизведенных фасадов почти как за «ширмой» и протекает глубоко внутри атриумов, пассажей, галерей, подземных стоянок и т.п., она убрана с улицы и отмечена на красной линии только респектабельным охраняемым входом.
В образной картине новой Москвы доля новейшей застройки пока невелика. Новейшая застройка отмечена присутствием нескольких стилевых направлений. В сфере актуальной визуалистики лидируют постройки негромкого московского постмодерна и покоряющие хай-тековским великолепием неомодернистские сооружения (работы бюро «Остоженка», например). Но громкость звучания этих стилевых тем снижается по мере приближения к историческому центру города, где на первом месте — обновление, реновации, о которых мы говорили, а также реставрация построек, среди которых основной объем занимают эклектика и модерн.
356
Число доходных домов эклектики и модерна в центре Москвы столь велико, что без преувеличения можно утверждать, что именно они до сегодняшнего дня определяют здесь стилевой строй окружения. Возвращены к новой жизни и как бы ярче проявлены с помощью высокотехнологичной современной реставрации (или просто обновлены с помощью так называемого «евроремонта») множество зданий модерна, долгое время незаслуженно руинировавшихся. Отреставрированные постройки модерна придают образной картине города (городского центра) ту степень сложности, символической нагруженности, выразительности и разнообразия, проработанности деталей, которая так необходима для выражения его органической сути и закрепления статуса столичности.
Доходные дома исторического стиля модерн становятся наиболее престижным жилищем и местом размещения офисов. Весьма тщательно отреставрированы постройки в стиле модерн в пределах Садового кольца. Приобрели первозданный красочный облик дом № 19 (архитектор СВ. Барков), дом № 23 (архитектор А.Л. Чижиков) на Садово-Кудринской, известный дом Скопника (архитектор Г.А. Гельрих), расположенный от них поблизости. Переделан до неузнаваемости дом Коробковой на Тверском бульваре (архитектор А.Ф. Мейснер), слившийся теперь по цвету и фактуре с серо-розовым гранитом здания ТАСС. Обновлен особняк-контора водочных заводчиков Смирновых на Тверском бульваре, 18 (архитектор Ф.О. Шехтель).
Работая с исторической городской средой (реставрация, реновация, новое строительство), современный архитектор (назовем его условно постмодернист) не навязывает ей системы крупномасштабных ансамблей. Его средовое кредо — фрагментарность и временность как самодостаточные черты художественного акта. Живая, «бурлящая» среда — это и есть цель проектного преобразования. Архитектор среды меняет лишь регистр контекста, усиливая те или иные архитектурные темы, меняя систему значений. Контекст как объект — своеобразен. Контекст «плывет», находится в непрерывном изменении, непрерывно локально совершенствуется.
Центральные районы Москвы отрекаются от серо-желтой суровости среды и весьма быстро набирают стертую за последние десятилетия степень яркости, цветовой приподнятости и разнообразия, органичных городу.
Современные формы обращения к модерну далеко не однородны. Они отражают присутствие в профессиональном архитектурном сообществе весьма различных по характеру мышления групп. В современных вариантах, или вариациях на тему ар нуво, можно различить по меньшей мере три направления: слегка консервативный, романтический и элегантный контекстуализм; броские и в чем-то поисковые стилизации; и наконец, некую очевидно постсовременную модель, построенную на диалогизме, ко
357
торый, собственно, и составляет основную дискурсивную конфигурацию архитектуры конца XX века.
Рассмотрим два примера, соотносимых с первой тенденцией, ориентированной в большой степени на контекст. На выбор стиля постройки здесь может повлиять функция здания, но чаще выбор предопределен характером места, его престижностью, соседством с характерной исторической постройкой. Нетрудно представить, например, что на выбор стилистической темы ар нуво для Кредобанка на Садово-Сухаревской, 9 (архитектор ИХ. Артамонова), оказала влияние близость недавно отреставрированного особняка Правдиной (архитектор A.B. Правдин) с весьма выразительной пластикой фасада. В рисунке фасада Кредобанка преобладает плоская силуэтность. В целом здание выступает, скорее, как знак стиля модерн, но не подражание, не повторение прототипов. Другой пример в рамках названной тенденции: элегантный, романтический, ностальгический, нарядный и обаятельный вариант модерна новой гостиницы «Тверская» (архитектор А.В.Локтев) выглядит как представитель нового поколения в известном семействе гостиниц в стиле модерн московского центра — «Метрополь» (архитекторы В.Ф. Валькот и Л.Н. Кекушев) и «Националь» (архитектор A.B. Иванов). Фасад идеально вписан в окружающую застройку и никак не нарушает духа места. Однако не нужно забывать, что перед нами современная постройка нового типа, гигант, внутренняя жизнь которого лишь обозначена фасадом, но сосредоточена в глубине атриумного пространства. Пластика нового здания следует историческим образцам почти с иконографической точностью.
Вторую тенденцию, которую мы назовем броские стилизации, можно рассмотреть в связи с особым типом строительства — капитальным обновлением больших участков города, старых трущобных кварталов (реновацией), где собственно объектом является фрагмент среды как целое. Здесь архитектор оперирует в основном набором типологически определенных и заданных историческим контекстом элементов-объектов. Крупное реновационное строительство, как правило, сопряжено с коммерческими целями (элитные жилые комплексы, офисы, банки, гостиницы). Здесь введение сюжета ар нуво усиливает общее впечатление, выполняя своеобразную рекламную функцию (знак престижа).
С этой точки зрения безусловный интерес вызывает работа архитектурного бюро «Группа АБВ» (архитекторы А.Р. Воронцов, Н.Ю. Бирюков, П.А. Андреев и др.), превратившего квартал между улицами Трубная и Сретенка в эффектную декорацию. Заглавную роль в группе домов играет элитный жилой дом в стиле ар нуво. Прагматическая интенция авторов обнаруживает себя в повышенной, рекламной по сути, контрастнос
358
ти цветоформы, жестковатой пластике. И все же именно эта постройка, ее образная система, вызывает ассоциации с наиболее символически нагруженной ветвью модерна — ар нуво. В пластике постройки прочитывается поэтика взламывающей мощи прорастания. В прорисовке фасада можно усмотреть скрытые зооморфные мотивы (маску ночной птицы — совы), столь характерные для исторического модерна.
Третье направление условно названо нами скрытый диалогизм. На первый взгляд, скромная постройка Презенткомбанка на улице Бахрушина, 10 (архбюро «Лара Дит», архитекторы Д. Долгой, М. Товве), представляет, с нашей точки зрения, высокий уровень современного проектного поиска. Авторская группа вырабатывает собственный пластический язык, не просто используя элементы образности модерна, но оперируя структурными элементами поэтики модерна, эклектики, постмодернизма с его склонностью к самоиронии. Ар нуво здесь необходим как непринужденная отсылка к безусловным ценностям московской среды. Однако легко прочитывается дистанция авторов по отношению к историческому стилю, позволяющая вести с ним диалог, не выходя из сложной и мозаичной речевой палитры постсовременности. В решении дворового фасада прочитываются реминисценции ар нуво и содержатся элементы постмодернистской игры. Так, пилястры, например, «держат пустоту» оконного проема. В целом же очевиден вкус к интеллектуальной художественной игре, умение
дистанцироваться и уйти от соблазна прямого следования образцам исторического стиля. Эта постройка — «сросток», новый тип строений, активно приживающийся в Москве, когда старое здание, обозначенное на красной линии отреставрированным фасадом, становится как бы младшим братом внутридворового строения-гиганта. Постройка вписана в контекст без нарушения стилистики эклектичного уличного фасада.
Стилевая тема ар нуво — это проявление лишь одного из формальных языков, возникших в рамках архитектурного историзма 90-х годов. Существенной чертой нео ар нуво является определенный схематизм его иконографии, который предопределен принципиально дистанцированным отношением к прототипам и использованием формальных черт стиля как знака в системе значащих кодов. Поэтому оценивать постройки нео ар нуво 90-х никак нельзя по критериям, применимым к историческому модерну. Современный архитектор наделяет свои постройки принципиально иными качествами, ориентированными на ценности архитектурного текста конца XX столетия.
В образной картине Москвы начала 90-х модерн снова выступил как одна из ведущих
стилевых тем, способных решать насущные проблемы и удовлетворять пре
359
стижные запросы столичного города. При всей прагматичности целей строительства, использующего стилистику модерна, оно все же представляет собой явление романтическое, поскольку, с одной стороны, ностальгически обращено в прошлое — к культурным высотам Серебряного века, а с другой, олицетворяет надежду на новый культурный подъем, которым всегда чреваты периоды брожения и поиска в искусстве.
Между работой «в стилях» и интуицией новейшей эстетики
В начале XXI века в российской архитектурной культуре наблюдается резкая смена привычных мифологем, потеря доверия к старым, недоверие к новым. Происходит кардинальная смена в проектной стратегии. Наблюдается внешне хаотическое смешение тенденций и направлений. Рядом сосуществуют тенденции минимализма, хай-тека, постмодернизма, неомодернизма, новой неоклассики, а в архитектуре интерьера обнаруживаются черты ампира, барокко, рококо, викторианского и колониального стилей.
Можно сказать, что в начале XXI века в российской архитектуре наблюдается специфический феномен. Архитектор удерживает свои профессиональные позиции благодаря естественно сложившейся тактике работы «в стилях». Сложный диалог с новым заказчиком потребовал создания такой специфической «стилевой» системы коммуникации и, соответственно, «стилевой» формы архитектурного высказывания. И такая структура дипломатических отношений на определенном этапе реконструкции профессии может сыграть положительную роль. Во всяком случае, совершенно очевиден поразительный рост мастерства архитекторов, в особенности тех, кто не изменяет выбранной эстетике. Профессионалы оттачивают свое мастерство в рамках предпочитаемого ими «стиля» или сразу нескольких «стилей». Вот только о «стиле» в таком контексте приходится говорить лишь условно. За термином «стиль» здесь стоит хорошо узнаваемая эстетика, готовая система приемов работы с формой.
Однако долго ли может работать модель профессионального творчества, лишенная идеи развития, изобретательства, принципиальной новизны формообразования?
В этом отношении весьма показательным представляется взлет профессиональной эстетической интуиции российских архитекторов, участвовавших в международном конкурсе на новое здание Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Соревнование на
360
международном уровне — это вызов, проверка современного чувства формы. Большинство российских архитекторов показали свое мастерство в рамках хорошо освоенной и излюбленной эстетики.
Грандиозность задачи — создание театра XXI века, даже нового тысячелетия, театра в красивейшем городе мира, театра северной столицы — потребовала от архитектора симфонического произведения, ориентированного одновременно и на контекст, и на современные концепции архитектурной формы. Образы, рожденные в новейших электронно-вычислительных экспериментах западного авангарда, оказались способны символизировать необходимую новизну. Не случайно из всех поданных на конкурс проектов особенно выделились три — Андрея Бокова с Олегом Романовым, француза Доминика Перро, американца Эрика Оуэна Мосса.
Названные проекты, на наш взгляд, более других отражают идею устремленности в будущее, более других слиты с эстетикой, вырабатываемой новейшими методами моделирования архитектурной формы. Сверхновая образность пришла из мало освоенного и несколько пугающего нас нелинейного мира, из неосязаемой нематериальной неевклидовой геометрии. Наиболее очевидно она представлена идеей свободной формы, воплотившейся в образе сложноскладчатой или криволинейной поверхности — «оболочки», способной на самостоятельную жизнь по отношению к структуре, конструкции, жесткой основе здания.
Проект Бокова и Романова выдержан в духе инновационной эстетики. Гибкая, изящно «прорисованная» оболочка мягко наброшена на новое здание и бережно обволакивает старую Мариинку со стороны улицы Декабристов и Крюкова канала. При всей инновационности приема авторам удалось чутко отнестись к контексту.
Проект Перро также построен на приеме «оболочки», золотистой, с суховатой структурой, сильно контрастирующей по цвету с окружением. Черное с красными элементами мраморное здание — жесткая основа постройки — выглядит довольно тяжеловесно. Проблема контекста, по-видимому, не прорабатывалась.
Наиболее отвечающим величию задачи представляется проект Мосса. На первый взгляд, решение может показаться парадоксальным, если думать только об историческом прошлом города. Но если задуматься о будущем, то перед нами воплощенный образ Театра Мира, Театра Века, Театра Великого города. Ритм хрупких вертикалей старого здания плавно переведен в ритм мощной горизонтальной пластики новой постройки и завершается «ледяным взрывом» в торцевой ее части. Взрывное, расходящееся во все стороны движение, выраженное с помощью «оболочки», воспринимается как символ прорыва в будущее. Столь эффектное решение криволинейной поверхно
361
сти в торце здания, обращенном к улице Декабристов, могло бы стать элегантным приобретением для городского ландшафта. Просвечивающая «оболочка» привлекает необычностью очертаний, отгораживает многоярусное фойе театра от улицы, но позволяет наблюдать праздничное коловращение публики внутри здания. Согласованность по цвету со старой Мариинкой — зеленоватый мрамор отделки фасадов новой постройки, царственный изумрудный отблеск завершающей ее криволинейной оболочки-завесы — усиливает значение обоих зданий театра. Очевидно, что Мосс провел тщательную работу по совмещению проекта с окружением.
Конкурс поднял на новую творческую высоту всех российских участников. Александр Скокан создал чистый образ высокотехнологичного театрального комплекса. Изобретательны проекты Сергея Киселева, петербуржцев Юрия Земцова и Михаила Кондиайна, Марка Рейнберга и Андрея Шарова, хотя им несколько недостает шарма истинной театральности.
В целом же новейшая техногенная тенденция в российской архитектуре до настоящего времени не развита: не поддержана технически, не востребована заказчиком.
Нелинейный эксперимент, требующий привлечения дорогостоящих технологий, пока недоступен российскому профессионалу. Поколение молодых архитекторов, однако, активно осваивает эстетику криволинейных оболочек, рожденную нелинейными опытами западных неоавангардистов. Ряд российских архитектурных студий
362
искусно имитируют виртуозные построения топологической геометрии с помощью хорошо освоенных в России линейных программ Архикад и 3Dmax. Ее отражение можно увидеть лишь в эстетических предпочтениях некоторых архитекторов. Пока невозможно сказать, родилась ли воля к новой форме, всегда служившая основой саморазвития профессии. Судя по всему, она проходит стадию накопления необходимых импульсов к движению, к развитию.
В чем видится возможность выхода из циклической стадии развития? Прежде всего в умножении числа языков. Такая тенденция очевидна, но важно, чтобы она не ушла в историзм ради историзма, в «стилизаторство» ради «стилизаторства», исключив движение к другому полюсу. При всем том, что российская архитектура не была причастна к школе классического модернизма, западного постмодернизма, деконструктивизма, все эти тенденции просматриваются, они пронизывают эстетику архитектуры. Важно понять, насколько глубоко они восприняты сознанием, сохраняет ли архитектура чувство реальности, обладает ли самостоятельной внутренней мотивацией творческого процесса.
В столкновении различных типов сознания, множества персональных философских и творческих установок, почерков, языков, в возрождении прерванных традиций, течений, в обращении к новому и сверхновому (к гиперреальности компьютерных построений) весьма сложно уловить, что поверхностно, а что глубинно. И неясно
363
пока, возможен ли вообще в России перелома веков тот индивидуальный интеллектуальный и духовный опыт, который характерен для западного архитектурного сознания перелома веков и составляет главную пружину появления нового, а если возможен, то что для российской архитектуры является его истоками и побуждающими мотивами. Неясно, может ли произведение архитектуры, не несущее в себе этого опыта, стать подлинным отражением внутренних эвристических моментов его создания, аккумулирующих всю внутреннюю эволюцию самого автора. Требует выяснения, что именно способствует или, напротив, мешает укоренению той особой «чувствительности» к состоянию современного мира, которая столь характерна для западного художника начала XXI столетия.
Главный вопрос, возникающий в профессиональной рефлексии российского архитектора в начале XXI столетия, состоит в следующем: сможет ли появиться на переломном этапе своя, а не только привычно подражательная, не только вторичная архитектурная культура? Говоря иначе, сможет ли архитектурный процесс в России пойти по пути «критического регионализма» (термин Кеннета Фремптона)? То есть в состоянии ли российская архитектура проявить волю к самоосознанию, не пугаясь собственной «периферийности», а, напротив, видя в ней залог самоутверждения, развития? Способна ли она обрести свое лицо, избегая при этом сентиментальных внешних проявлений местных традиций, и наконец прочно занять собственную позицию ради того, чтобы иметь шанс участвовать в диалоге со «всемирной цивилизацией», став частью магистрального движения архитектуры, и тем самым противостоять нивелирующему процессу глобализации?
По-видимому, сама оценка российского архитектора должна опираться на созерцание культурной сущности архитектурного процесса в России. Исследование характерных для России многократных «прерывностей», «перебивов» и даже «забеганий вперед» в архитектурном дискурсе XX века способствует своего рода восстановлению, переописанию этой внутренней сущности. Осмысленная ретроспектива истории мысли — это как бы собирание «кусочков» в единое тело ради возрождения его в новом качестве, залог осознанного смыкания с новейшими тенденциями и проверка на устойчивость в продуктивном диалоге с иными культурами и цивилизацией в целом.
В теории уже частично начата переоценка ценностей. Но теория не успевает охватить исторические и новейшие явления в их совокупности, в сопоставительной ясности, возможно, в силу того, что сама теория длительно пребывала в состоянии идеологической и философской одномерности. В наше время само творчество проводит
364
такого рода переоценку ценностей. И сегодняшние «буржуазные» тенденции архитектуры можно оценить как рекогносцировку ситуации с целью расстановки сил для следующего стратегического маневра. Характерна принципиальная ориентация на историю: каждый большой город живет своей легендой и строит средствами архитектуры свой космос — Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. Но считать перевес в сторону историзма, работы «в стилях» единственно верной основой для развития было бы необоснованным оптимизмом. Кроме того, важно понять, что сегодня философский багаж российского архитектора изобилует лакунами. Философская мысль западной архитектуры развивалась практически синхронно с общекультурным процессом, и вполне естественно, что почти каждый видный западный архитектор — оригинальный мыслитель.
Понятно, что рассматривать движение российского архитектурного сознания в целом, ориентируясь на западную модель, пока невозможно. Пути развития западной архитектурной мысли, побуждающие мотивы, способствующие появлению, вызреванию, кризису отдельных идей, не имеют сходства с мотивами российской архитектуры хотя бы в силу различия социально-культурного фона: запад давно живет как общество массового потребления, как информационное общество со всеми позитивными и негативными чертами этих явлений, тогда как Россия пока вошла в фазу «дикого» капитализма.
Однако, несмотря на очевидные различия форм сознания, можно выделить ряд проблем, ставших уже общими и для российского, и для западного архитектурного мышления. В этом ряду — вопрос о противостоянии исторической и авангардной традиций, природно-космической и техногенной тенденций, монологического и диалогического типов мышления, классической поэтики и неклассической. Проблемными становятся диалектика «формы» и «смысла» (функции), сращение феномена «экранной» культуры с феноменом «виртуальной реальности», нашедшие отражение в образной специфике архитектуры.
Целесообразно говорить об общности сознания, обусловленной определенной синхронностью развития и культурного освоения современного естественнонаучного и технико-технологического знания. Это обстоятельство стало основанием общности новых представлений о мире и месте человека в нем. Оно одинаково актуально для всего архитектурного сообщества. По всей видимости, можно обнаружить сходство на уровне глубинной онтологической мотивации творческого поиска.
Феноменальной является общая для западного и российского сознания тенденция движения архитектурного дискурса от «несвободы» — канона, нормы, образца,
365
коллективной творческой доктрины — к «свободе» в выборе формальных средств и транслируемых смыслов. В разное время и по разным побудительным причинам российские и западные архитекторы подошли к сходным идеям: освобождения от власти «образца» — классического, модернистского, от власти связки «форма-функция», и наконец, на исходе века, от программной власти «текста». На российского архитектора эти новые «свободы» обрушились в последние несколько лет. Представители самого молодого поколения — поколения «next» — настроены на дальнейшее освобождение — «от всего», а точнее, от любого рода структурности. На последнем витке 1990-х эта новая степень свободы была обретена одновременно с экспериментами по выходу в виртуальное пространство. И перед теорией архитектуры, как западной, так и российской, практически одновременно встала проблема осмысления компьютерного синтеза архитектурной формы. Как реакция на техногенные устремления, в мире возрождается традиционалистская тенденция. В российском варианте это поворот к душеспасительной новой неоклассике, аллюзии «природного», вводимые в постмодернистский контекст. Важнейшей остается проблема индивидуализации языка в контексте проблемы сохранения и увеличения уникальности в глобализирующемся мире.
366
Не уродство, а постмодернизм — Bird In Flight
Если вы живете в областном центре в Украине, то перечень ценной архитектуры в вашем городе примерно следующий: церковь в стиле казацкого барокко, царские дома в стиле модерна, неоклассицизма и эклектики. Из советской архитектуры — конструктивизм, сталинский ампир и советский модернизм, и это, пожалуй, весь список архитектурного наследия.
Архитектуру 1990—2000-х мы порой не воспринимаем именно как архитектуру. В лучшем случае она просто выполняет какую утилитарную функцию, в худшем — вызывает отвращение. Между тем архитектура, какой бы она ни была, является отражением своего времени и заслуживает того, чтобы быть изученной и описанной. Важно понимать, почему в определенный период строили именно так и в чем теперь ценность этих зданий, если она вообще есть.
Распад Советского Союза и, соответственно, исчезновение государственной монополии на архитектуру совпали с началом кризиса постмодернизма на Западе — направления, возникшего как реакция на четкость и чистоту форм модернизма.
Постмодернизм можно охарактеризовать двумя эпитетами — сложный и противоречивый.
Один из первых архитекторов-постмодернистов и теоретиков стиля Роберт Вентури изложил свои идеи в книге «Сложности и противоречия в архитектуре» (1966). Собственно, этими двумя эпитетами, по мнению Вентури, можно охарактеризовать постмодернизм — сложный и противоречивый. Позже в соавторстве со своей женой, архитектором Дениз Скотт-Браун, Вентури написал еще одну знаковую для постмодернизма книгу — «Уроки Лас-Вегаса» (1972). Они раскритиковали модернизм за недостаточное внимание к контексту места и отсутствие оригинальности и поставили в пример Лас-Вегас с его иногда гротескной, но оригинальной архитектурой.
Постмодернизм зародился на Западе в то же время, когда в СССР продолжалась «борьба с излишествами в архитектуре». Нельзя сказать, что постмодернизма в Союзе не было вовсе, однако эксперименты советских архитекторов с формой и содержанием были куда менее смелыми. На начало 90-х западный постмодернизм уже успел эволюционировать в несколько независимых направлений, и из ящика Пандоры, открытого Робертом Вентури, вылезли такие причудливые создания, как офис компании Disney с гигантскими гномами в качестве кариатид.
Постмодернизм в большом городе – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
24–28 марта в Москве пройдёт ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. На ней Издательский дом ВШЭ представит перевод книги Дэвида Харви «Состояния постмодерна. Исследование истоков культурных изменений». IQ.HSE предлагает познакомиться с отрывком из книги о постмодернистском взгляде на архитектуру и урбанистику.
Постмодернизм в архитектуре и городском проектировании (urban design) я рассматриваю в широком смысле — как разрыв с модернистской идеей, согласно которой планирование и развитие территорий следует фокусировать на крупномасштабных, имеющих столичный размах, технологически рациональных и эффективных городских планах, опирающихся на архитектуру, совершенно лишенную каких-либо излишеств (строгие «функционалистские» плоскости модернизма «интернационального стиля»). Постмодернизм же, напротив, развивает концепцию городской застройки как неизбежно фрагментированного явления, «палимпсеста» прошлых форм, наложенных друг на друга, и «коллажа» сиюминутных функционалов, многие из которых могут носить эфемерный характер.
Поскольку метрополисом невозможно управлять иначе, как фрагментарно, городской проект (design) (отметим, что постмодернистский проект — это не план) теперь попросту направлен на то, чтобы быть чувствительным к местным традициям, локальным сюжетам, отдельным потребностям, нуждам и фантазиям. Тем самым он порождает специализированные и даже в высокой степени кастомизированные архитектурные формы, которые могут варьироваться от укромных, персонализированных пространств до традиционной монументальности и далее до весёлого зрелища. Все эти формы могут расцвести буйным цветом благодаря обращению к характерной эклектике архитектурных стилей.
Прежде всего, постмодернисты радикально порывают с модернистскими концепциями отношения к пространству. Если модернисты рассматривают пространство как нечто требующее оформления во имя социальных целей и поэтому всегда подчиненное конструированию некоего социального проекта, то постмодернисты рассматривают пространство как нечто независимое и автономное, что может быть оформлено в соответствии с эстетическими целями и принципами, которые не имеют ничего общего с возвышающейся над ними социальной задачей, за исключением, возможно, достижения вневременной и «свободной от какого-либо интереса» красоты как некоей цели в себе.
Есть несколько причин, почему полезно помнить об этом сдвиге. Начать хотя бы с того, что преобразованная человеком среда составляет один из элементов в том комплексе городского опыта, который долгое время был главным плавильным котлом, где формировались новые разновидности культурной чувственности. Внешний облик города и организация пространств внутри него составляют материальную базу, отталкиваясь от которой, может быть помыслен, оценен и достигнут ряд возможных ощущений и социальных практик.
Одно из измерений «Пластичного города» Рабана оказывается более или менее жёстким за счет самого способа, каким формируется урбанизированная среда. В свою очередь, архитектура и градостроительное проектирование выступали центральным предметом масштабных полемических дискуссий о тех способах, которыми эстетические суждения могут или должны инкорпорироваться в зафиксированную в пространстве форму, и о том, какие это будет иметь последствия для повседневной жизни. Если мы переживаем архитектуру как коммуникацию, если, как настаивает Ролан Барт, «большой город — это дискурс, и этот дискурс действительно является языком», то прислушаться к сказанному выше следует в первую очередь потому, что мы, как правило, усваиваем подобные сообщения в самой гуще множества прочих отвлекающих шумов городской жизни.
В число ближайших советников принца Чарльза по вопросам архитектуры и городского проектирования входит архитектор Леон Крие. Высказанные им претензии к модернизму в том виде, как они были сформулированы в публикации (многословной для особого эффекта) 1987 года в № 65 журнала Architectural Design Profile, весьма интересны, поскольку они выводят публичную дискуссию в Великобритании на высочайший и одновременно наиболее общий уровень.
Ключевой проблемой для Крие является то, что модернистское городское планирование проводится главным образом посредством монофункционального зонирования. В результате основной заботой градостроителя становится циркуляция людей между различными зонами при помощи искусственных артерий, что порождает городскую модель, которая, по оценке Крие, «антиэкологична», поскольку требует напрасных трат времени, энергии и земельных ресурсов:
Символическая бедность нынешней архитектуры и городского ландшафта является прямым следствием и выражением функционалистской монотонности, возведенной в закон практиками функционального зонирования. Основные современные (modern) типы зданий и планировочные модели, такие как небоскреб, длинный дом (groundscraper), центральный деловой район, торговый квартал, офисный парк, жилой пригород и т.д., представляют собой безальтернативные горизонтальные или вертикальные сверхконцентрации однозадачности в одной городской зоне, в одной программе застройки или под одной крышей.
Этой картине Крие противопоставляет «хороший город» (экологичный по своей природе), где «вся совокупность городских функций» обеспечивается в рамках «гармоничных и приятных пеших расстояний». Осознавая, что подобная городская форма «может расти не путем растягивания в ширину и высоту», но лишь «за счёт мультипликации», Крие стремится к такой форме большого города, которая состоит из «полноценных и завершенных городских сообществ», каждое из которых составляет независимую единицу внутри большого семейства городских кварталов, в свою очередь, формирующих «города внутри города». Только в таких условиях возможно восстановить «символическое богатство» традиционных городских форм, основанных на «близости и диалоге максимально возможного разнообразия и, следовательно, на выражении подлинного разнообразия, о котором свидетельствует наполненное смыслом и верное соположение публичных пространств, городской застройки и горизонта».
Подобно некоторым другим европейским постмодернистам, Крие стремится к активной реставрации и воссозданию традиционных «классических» городских ценностей. Это означает либо реставрацию предшествующей городской застройки и её приспособление к новым функциям, либо создание новых пространств, выражающих традиционные визуальные облики с помощью всех ухищрений, какие только позволяют современные технологии и материалы.
Хотя проект Крие является лишь одним из многих возможных направлений, которым может способствовать постмодернизм (к примеру, другим и совершенно отличным направлением служит восхищение Вентури Диснейлендом, Лас-Вегас-Стрип и орнаментами пригородов), он активно педалирует определенную концепцию модернизма в качестве отправной точки для реакции на неё. Потому целесообразно рассмотреть, в какой степени и почему та разновидность модернизма, которую поносит Крие, стала настолько определяющей чертой послевоенной организации городского пространства.
Город после войны
Политические, экономические и социальные проблемы, с которыми столкнулись развитые капиталистические страны после Второй мировой войны, были столь же масштабны, сколь и остры. Новый международный порядок и процветание приходилось каким-то образом строить на основе программы, соответствовавшей надеждам множества людей, которые пожертвовали свои жизни и силы в схватке, в общем виде описанной (и оправданной) в качестве борьбы за более безопасный мир, лучший мир, борьбы за лучшее будущее. Что бы это ни означало, главным, что предполагала эта программа, было невозвращение к довоенному состоянию экономического спада и безработицы, голодных маршей и суповых кухонь для бедняков, деградирующих трущоб и нужды, а также к социальному хаосу и политической нестабильности, которыми они тотчас же могли обернуться. Послевоенным политикам, если они собирались оставаться демократическими и капиталистическими, приходилось обращаться к вопросам полной занятости, обеспечения достойным жильем, социального обеспечения, благосостояния и к практически всеобщим программам возможностей создания лучшего будущего.
Хотя в разных местах конкретные тактики и условия отличались друг от друга (например, в таких аспектах, как масштаб послевоенной разрухи, допустимый уровень централизации политического контроля или степень приверженности идее государства всеобщего благосостояния), универсальным трендом было использование военного опыта массового производства и планирования в качестве средства для запуска масштабной программы реконструкции и реорганизации. Это напоминало чуть ли не возрождение из смерти и разрухи, оставленной глобальным конфликтом, подобно птице Феникс, новой и реанимированной версии проекта Просвещения.
Реконструкция, переустройство городской структуры и её обновление стали принципиальным компонентом в рамках этого проекта. Именно в этом контексте идеи CIAM, Ле Корбюзье, Миса ван дер Роэ, Фрэнка Ллойда Райта и прочих получили широкое одобрение, причем в большей степени в качестве теоретической рамки и обоснования того, во что масштабная социальная, экономическая и политическая необходимость вовлекала ориентированных на практику инженеров, политиков, строителей и девелоперов, нежели в качестве осуществляющей контроль над производством силы идей.
В рамках этих общих принципов были использованы все возможные решения. Великобритания, например, приняла довольно строгое законодательство в области планировки городских и сельских населённых пунктов. Результатом этого стали ограничение субурбанизации и замена её спланированным развитием «новых городов» (по модели Эбенезера Говарда), или высокоплотной застройкой, или перестройкой городов (по модели Ле Корбюзье).
Под пристальным взглядом и временами жёсткой рукой государства были разработаны процедуры ликвидации трущоб, возведения модульного жилья, школ, больниц, фабрик и т.д. посредством внедрения промышленных систем строительства и процедур рационального планирования, которые уже давно предлагали архитекторы-модернисты. И всё это воплощалось во всё новых законах, касавшихся рационализации пространственных моделей и систем коммуникации с целью повышения равенства (по меньшей мере равенства возможностей), социального благосостояния и экономического роста.
В то время как многие европейские страны осуществляли у себя различные варианты британской модели, Соединенные Штаты двинулись по пути городской реконструкции совершенно иного типа. Быстрая и слабо контролируемая субурбанизация (которая, согласно риторике того времени, была воплощением чаяний любого демобилизованного солдата) велась на частные средства, но масштабно субсидировалась за счёт правительственной поддержки программ жилищного финансирования и прямых государственных инвестиций в строительство шоссе и другой инфраструктуры.
Ухудшение состояния городских центров, последовавшее за выносом рабочих мест и отъездом оттуда людей, вызвало к жизни мощную и вновь просубсидированную правительством стратегию обновления городов за счёт масштабной расчистки и реконструкции этих старых городских центров. Именно в этом контексте такой деятель, как Роберт Мозес — серый кардинал редевелопмента Нью-Йоркской агломерации, по выражению Роберта Каро, — смог так устроиться между источниками государственных фондов и требованиями частных инвесторов, что это произвело столь масштабный эффект, придавший новую форму всей агломерации Большого Нью-Йорка благодаря строительству шоссе, сооружению мостов, созданию парков и перестройке города.
Американское решение обозначенных выше проблем, хотя и отличалось по форме, тем не менее также масштабно опиралось на массовое производство, индустриализованные системы строительства и размашистую доктрину, согласно которой рационализированное городское пространство могло возникнуть там, где оно связано воедино (как предвидел Фрэнк Ллойд Райт в своем проекте Броадакра в 1930-х годах) с помощью индивидуальных транспортных средств, использующих инфраструктуру, предоставленную государством.
Думаю, было бы ошибочно и несправедливо изображать эти «модернистские» решения проблем послевоенного городского развития как чистой воды провалы. Разрушенные войной города были быстро реконструированы, а их население получило гораздо лучшие жилищные условия по сравнению с довоенным периодом. Учитывая уровень технологий, который был доступен в то время, и очевидную нехватку ресурсов, сложно судить о том, можно ли было прийти к принципиально иным результатам, нежели те, что были фактически достигнуты. И хотя некоторые решения оказались куда более успешны (в том смысле, что они получили широкое общественное признание, как в случае с «Жилой единицей» Ле Корбюзье в Марселе), чем другие (здесь я отмечу склонность постмодернистов всегда упоминать только плохие примеры), общие усилия были довольно успешны в части восстановления городской структуры с помощью инструментов, которые помогли сохранить полную занятость, улучшить материальное социальное обеспечение, сделать вклад в задачи благосостояния и в целом помочь сохранению капиталистического социального порядка, оказавшегося в 1945 году под прямой угрозой.
Неверно и утверждение, будто модернистские стили обладали гегемонией по чисто идеологическим причинам. Стандартизация и конвейерное однообразие, на которое позже жаловались постмодернисты, были столь же всепроникающими и в районе Лас-Вегас-Стрип, и в Левиттауне (которые едва ли строились по модернистским регламентам), как и в зданиях Миса ван дер Роэ.
В послевоенной Великобритании модернистские проекты осуществляли правительства и лейбористов, и консерваторов, однако любопытным образом именно левых обвиняют в том, что сотворили консерваторы. А именно, в результате экономии на издержках, в особенности при возведении жилья для людей с низкими доходами, они создали многие из худших образцов быстровозводимых трущоб и наполненных отчуждением жизненных условий. Диктат издержек и эффективности (особенно важный применительно к менее зажиточным группам обслуживаемого населения), помноженный на организационные и технологические ограничения, определенно играл важную роль в качестве идеологической заботы о стиле.
Господство капитала
Тем не менее в 1950-е годы действительно стало модным восхвалять достоинства международного стиля, превозносить его возможности в создании нового типа человека, видеть в нем выразительный инструмент интервенционистского бюрократического государственного аппарата, который в связке с корпоративным капиталом воспринимался в качестве стража всех будущих улучшений человеческого благосостояния. Некоторые идеологические притязания были грандиозны. Однако радикальные трансформации в социальных и физических ландшафтах крупных капиталистических городов часто имели мало общего с подобными претензиями.
Начнем с того, что земельные спекуляции и освоение земельных участков (property development) — с целью получения земельной ренты, а также прибыльного, быстрого и дешёвого строительства — были господствующими силами в развитии территорий и строительной индустрии, выступавших ключевым направлением накопления капитала. Даже когда корпоративный капитал сдерживали планировочными правилами или ориентацией на государственные инвестиции, он по-прежнему обладал огромной мощью. А там, где корпоративный капитал стоял у власти (особенно в Соединенных Штатах), он мог легко присваивать любые модернистские штуки из книг архитекторов, чтобы продолжать свою практику строительства монументов самому себе, которые вздымались ещё выше, символизируя мощь корпораций.
Монументы наподобие здания Chicago Tribune (построенного по проекту, который был отобран по итогам конкурса с участием многих выдающихся модернистских архитекторов) и Rockefeller Center с его необычным барельефом в виде символа веры Джона Д. Рокфеллера являются частью непрекращающейся истории почитания по умолчанию священной классовой власти, которая сравнительно недавно пришла к Trump Tower или постмодернистскому монументализму зданий компании AT&T, построенных по проекту Филипа Джонсона.
Думаю, было бы совершенно ошибочным возлагать всю вину за изъяны послевоенного городского девелопмента на движение модерна безотносительно к тем политико-экономическим мотивам, под которые плясала послевоенная урбанизация. Однако послевоенный подъём модернистских настроений был широко распространён, и отчасти это могло быть обусловлено значительным разнообразием локальных неомодернистских концепций, которые родились в ходе послевоенной реконструкции.
<…>
Корни постмодернизма
На поверхностном уровне может показаться, что постмодернизм как раз и занимается поиском способов выражения эстетики разнообразия. Однако важно принимать во внимание, каким образом он это делает. Именно так можно обнаружить глубокую ограниченность (которую осознают более склонные к рефлексии постмодернисты), а заодно и лишь поверхностные преимущества многих постмодернистских начинаний.
Например, Чарльз Дженкс утверждает, что корни постмодернистской архитектуры лежат в двух значительных технологических сдвигах. Во-первых, современные средства коммуникации предельно сократили «привычные границы времени и пространства», породив как новый интернационализм, так и сильные внутренние различия в рамках больших городов и обществ, основанные на факторах места, функции и социального интереса.
Эта «искусственная фрагментация» существует в контексте транспортных и коммуникационных технологий, обладающих способностью поддерживать социальное взаимодействие в пространстве высокодифференцированным способом. Поэтому архитектура и городское проектирование получили новые и более широкомасштабные благоприятные возможности для диверсификации пространственной формы, чем это было в период сразу после Второй мировой. Дисперсные, децентрализованные и деконцентрированные городские формы теперь технологически куда легче воплотимы, чем когда-либо.
Во-вторых, новые технологии (в особенности компьютерное моделирование) устранили необходимость массового производства, неизменно подразумевающего массовые серии одних и тех же изделий, и сделали возможным гибкое массовое производство «почти персонализированной продукции», выражающее большое разнообразие стилей. «Результаты этого ближе к ремеслу XIX века, чем к регламентированным суперкварталам в духе романа “1984”».
С тем же успехом теперь можно довольно дешево производить множество новых строительных материалов — некоторые из них обеспечивают почти точную имитацию значительной части прежних стилей (от дубовых балок до закаленного кирпича). Выдвижение этих новых технологий на первый план не означает интерпретацию постмодернистского движения в духе технологического детерминизма. Однако Дженкс действительно предполагает, что контекст, в котором теперь работают архитекторы и градостроители, изменился таким образом, который освобождает их от ряда наиболее значительных ограничений, существовавших в первые послевоенные годы. Как следствие, постмодернистский архитектор и городской планировщик могут с большей легкостью принимать вызов необходимости персонализированной коммуникации с разными группами заказчиков, одновременно ориентируя плоды своей деятельности на разные ситуации, функции и «вкусовые культуры».
Эти группы заказчиков, утверждает Дженкс, очень озабочены «знаками статуса, истории, коммерции, комфорта, этнической сферы, знаками соседства» и желанием удовлетворить всякий и любой вкус, включая вкусы Лас-Вегаса или Левиттауна, которые модернисты стремились игнорировать как простецкие и банальные. Поэтому постмодернистская архитектура является принципиально антиавангардистской, она не желает навязывать некие решения, к чему были и по-прежнему остаются склонны высокие модернисты, градостроители от бюрократии и авторитарные застройщики.
<…>
Символический капитал архитектуры
Целесообразно поставить стремление Крие к символическому богатству в контекст тезисов Бурдьё. Именно стремление к трансляции социальных различий через приобретение всевозможных статусных символов долгое время было ключевым аспектом городской жизни. Уже в начале ХХ века несколько блестящих исследований этого явления предпринял Георг Зиммель, а затем к его идеям снова и снова возвращались многие исследователи, такие как Уолтер Файри в 1945 году и Майкл Джагер. Однако, на мой взгляд, следует честно признать, что в рамках модернистского движения действительно предпринимались все усилия, чтобы принизить значимость символического капитала в городской жизни — отчасти по практическим, техническим и экономическим, но в то же время и по идеологическим причинам.
Рассогласованность подобной форсированной демократизации и вкусового эгалитаризма с социальными различиями, типичными для того общества, которое в конечном счёте сохраняло свой капиталистический и классово разделенный характер, несомненно, создавало атмосферу подавленного спроса, а то и подавленного желания (и некоторые из этих желаний были выражены в культурных движениях 1960-х годов). Это подавленное желание, вероятно, действительно играло важную роль в стимулировании рынка для более диверсифицированных городской среды и архитектурных стилей. Конечно же, именно это желание и стремятся удовлетворить постмодернисты — а то и бессовестно его разжигать. «Что же касается представителей среднего класса, проживающих не в довоенных загородных усадьбах, а в более скромных по размеру домах, затерянных на бескрайних равнинах, — отмечают Вентури и его соавторы, — то их узнаваемость должна была достигаться за счет символического решения формы здания — либо в одном из предложенных застройщиком стиле (к примеру, “колониальном”), либо при помощи добавления к дому различных символических декоративных элементов, подобранных самим владельцем».
Проблема в данном случае заключается в том, что вкус является далеко не статичной категорией. Символический капитал остается капиталом лишь в той степени, в какой он поддерживается прихотями моды. Между создателями вкуса идет борьба, как показывает Шэрон Зукин в своей великолепной книге «Жизнь в стиле лофт», где рассматриваются роли «капитала и культуры в городском изменении» на материале исследования эволюции рынка недвижимости в нью-йоркском районе Сохо: могущественные силы учредили новые критерии вкуса в искусстве, а заодно и в городской жизни, и хорошо заработали на том и другом. Поэтому символическое богатство Крие, объединяя идею символического капитала с поиском рынка сбыта, многое сообщает о таких городских явлениях, как джентрификация, производство сообществ (реальных, воображаемых или просто упакованных для продажи их производителями), благоустройство городских ландшафтов и восстановление истории (опять же, реальной, воображаемой или просто воспроизведенной в виде пастиша). Всё это также помогает осознать нынешнее восхищение украшательством, орнаментацией и декорацией, как и столь многочисленными кодами и символами социального различения.
Однако внимание к потребностям в «гетерогенности, предъявляемым городскими селянами и культурами вкуса», уводит архитектуру от идеала некоего единого метаязыка, разделяя её на высокодифференцированные дискурсы. «“Язык” — “langue” (общий набор коммуникационных источников) — является настолько гетерогенным и разнообразным, что любая отдельная “речь” — “parole” (индивидуальный выбор) — отразит это». Дженкс, хотя он и не использует подобную формулировку, мог бы легко сказать, что язык архитектуры растворяется в высокоспециализированных языковых играх, каждая из которых по-своему подходит к совершенно разным интерпретативным сообществам.
Фрагментация и коллаж
Результатом этого становится фрагментация, зачастую сознательно используемая. Например, группа ОМА описывается в каталоге «Постмодернистские ви́дения» как понимающая «восприятия и опыты настоящего в качестве символических и ассоциативных, как фрагментарный коллаж, ключевую метафору для которого предоставляет Большой город». Группа ОМА производит графические и архитектурные работы, «для которых характерен коллаж фрагментов реальности и осколков опыта, обогащённых историческими отсылками». Метрополис воспринимается как «система анархических и архаических знаков и символов, которая постоянно и автономно обновляет сама себя».
Другие архитекторы пытаются культивировать замысловатые качества городской среды, переплетая интерьеры и экстерьеры (как в плане первого этажа новых небоскребов между Пятой и Шестой авеню в Мидтауне Манхэттена или в комплексе AT&T и IBM на Мэдисон-авеню) или же просто создавая с помощью интерьера ощущение неустранимой сложности, интерьер-лабиринт наподобие того, что представлен в музее перестроенного Gare d’Orsay в Париже, в новом комплексе Lloyd’s building в Лондоне или в отеле Westin Bonaventure в Лос-Анджелесе, все бестолковости которого подробно разобрал Джеймисон. Созданные постмодернистами среды, как правило, разыскивают и воспроизводят темы, которые столь настоятельно подчеркивал Рабан в «Пластичном городе»: склад стилей, энциклопедия, «маниакальный альбом, заполненный цветастыми записями».
Эта возникающая в результате поливалентность архитектуры, в свою очередь, производит напряжение, делающее данную архитектуру «по необходимости радикально шизофренической». Интересно рассмотреть, каким образом Дженкс, главный хронист постмодернистского движения в архитектуре, обращается к шизофрении, на которую многие другие авторы указывают как на общую характеристику постмодернистского типа мышления.
Архитектура, утверждает Дженкс, должна воплощать двойное кодирование, в котором «один код является популярным и традиционным, медленно, подобно разговорному языку меняющимся, наполненным штампами и укорененным в семейной жизни», а другой является современным (modern), вырастающим из «быстро меняющегося общества с его новыми функциональными задачами, новыми материалами, новыми технологиями и идеологиями», а также с его быстро меняющимися искусством и модой. Здесь мы сталкиваемся с бодлеровской формулировкой, но уже в обличье нового историзма. Постмодернизм отвергает модернистский поиск внутреннего смысла в пучине беспорядка сегодняшнего дня и утверждает более широкую основу для вечного в сконструированном представлении об исторической преемственности и коллективной памяти. Здесь, опять же, важно рассмотреть, как именно это сделано.
Монументальная память
Крие стремится к прямому восстановлению классических городских ценностей. Итальянский архитектор Альдо Росси выдвигает иную аргументацию:
Разрушение и уничтожение, экспроприация и резкие изменения в результате спекуляций и обветшания — вот самые узнаваемые признаки городской динамики. Но за всем этим данные образы подразумевают прерванную судьбу личности, ее зачастую печального и сложного участия в судьбе коллектива. Подобное представление о целостности личности, по всей очевидности, соответствует характерному постоянству городских монументов. Монументы — знаки коллективной воли, выраженной посредством принципов архитектуры, — оказываются первичными элементами, устойчивыми точками в городской динамике.
Здесь мы вновь сталкиваемся с трагедией модерна, но на сей раз она запечатлена в статичном граните монументов, которые включают и сохраняют «таинственное» ощущение коллективной памяти. Сохранение мифа посредством ритуала «представляет собой ключ к пониманию смысла существования монументов, а также скрытых смыслов основания городов и передачи идей в городском контексте». По мнению Росси, задача архитектора состоит в «свободном» участии в создании «монументов», выражающих коллективную память, при одновременном осознании того, что нечто конституирующее монумент само по себе является тайной, которая «прежде всего обнаружится в скрытой и безграничной воле его коллективных манифестаций».
Росси укореняет своё понимание этого в понятии genre de vie — того сравнительно устойчивого образа жизни, который обычные люди создают для себя в определённых экологических, технологических и социальных условиях. Этот концепт, почерпнутый из работ французского географа Видаля де ла Блаша, сообщает Росси ощущение того, что именно выражает коллективная память. Но от внимания Росси ускользает то обстоятельство, что Видаль находил свою идею genre de vie уместной для интерпретации сравнительно медленно меняющихся крестьянских обществ, однако ближе к концу жизни стал сомневаться в её применимости к быстро меняющимся ландшафтам капиталистической индустриализации (см. его «Географию Восточной Франции», опубликованную в 1916 году).
В условиях быстро разворачивающегося индустриального изменения проблема заключается в том, чтобы избежать незаметного перехода от теоретической позиции де ла Блаша к эстетическому производству мифа посредством архитектуры и тем самым попадания в ту же ловушку, с которой «героический» модернизм столкнулся в 1930-х годах. Неудивительно, что архитектура Росси подвергается резкой критике. Умберто Эко называет её «пугающей», а другие авторы указывают на различимые в ней фашистские обертоны.
Но у Росси есть по меньшей мере то достоинство, что он рассматривает проблему исторической референции всерьёз. Другие же постмодернисты просто совершают жесты в направлении исторической легитимности путем обильного и зачастую эклектичного цитирования стилей прошлого. С помощью фильмов, телевидения, книг и т.д. история и прошлый опыт превращаются в, похоже, необъятный архив, который «находится в непосредственном доступе и может быть использован вновь и вновь одним нажатием клавиши». Если историю, по словам Тейлора, можно рассматривать «в качестве бесконечного резерва равносильных событий», то архитекторы и планировщики городской среды в таком случае могут свободно цитировать их в любом порядке, как им вздумается. Склонность постмодерна к смешению в одну кучу всех способов отсылки к прошлым стилям — одна из его самых вездесущих характеристик. Кажется, что реальность формируется из мимических образов медиа.
Однако результат вписывания подобной практики в современный социально-экономический и политический контекст оказывается чем-то большим, нежели просто экстравагантностью — например, начиная примерно с 1972 года то явление, которое Роберт Хьюисон называет «индустрией наследия», в Великобритании внезапно стало большим бизнесом. Музеи, сельские дома, реконструированные и обновленные городские ландшафты, сохраняющие отзвук прошлых форм, прямые копии прежних элементов городской инфраструктуры стали неотъемлемой частью масштабной трансформации британского ландшафта, дошедшей до того, что, по оценке Хьюисона, Британия стремительно поворачивается от производства товаров к производству наследия в качестве своей главной отрасли промышленности. Хьюисон объясняет стоящий за этим стимул в терминах, несколько напоминающих Росси:
Мотив сохранения прошлого является частью мотива сохранения себя. Не зная того, где мы были, сложно знать, куда мы идем. Прошлое — это основание индивидуальной и коллективной идентичности, объекты из прошлого выступают источником смысла в качестве культурных символов. Преемственность между прошлым и настоящим создает ощущение причинно-следственных связей из случайного хаоса, а поскольку изменение неизбежно, стабильная система установленных смыслов позволяет справляться как с новшествами, так и с распадом. Ностальгический импульс является играет важную роль в процессе приспособления к кризису, он смягчает социальное напряжение и стимулирует национальную идентичность в момент, когда доверие ослаблено или находится под угрозой.
Здесь Хьюисон открывает нечто потенциально имеющее огромную значимость, поскольку с начала 1970-х годов озабоченность идентичностью с её личными и коллективными истоками действительно стала ощущаться куда острее из-за масштабно распространившейся неустойчивости на рынках труда, в сферах технологических комплексов, кредитных систем и т.д.
Но к сожалению, оказалось невозможным отделить склонность постмодернизма к историческому цитированию и популизму от простой задачи поставки ностальгических импульсов, а то и потакания им. Хьюисон усматривает следующее соотношение между индустрией наследия и постмодернизмом: «Оба они втайне замышляют создать некий поверхностный экран, который внедряется посреди нашего актуального существования, нашей истории. У нас нет понимания истории в её глубине — вместо этого нам предлагают некое современное творение, в большей степени костюмную драму и реконструкцию событий прошлого, чем критический дискурс».
Эклектика цитирований
То же самое можно сказать и относительно способа, каким постмодернистская архитектура и дизайн цитируют необъятный информационный и образный ряд городских и архитектурных форм, обнаруживаемых в различных частях света. Все мы, утверждает Дженкс, несем с собой находящийся в нашем сознании musée imaginaire, сформированный из опыта (часто туристического) других мест и знаний, которые почерпнуты из фильмов, телепередач, выставок, туристических буклетов, популярных журналов и т.д. То, что все это сходится воедино, неизбежно, полагает Дженкс, а то, что именно так и должно быть, одновременно восхитительно и здорово: «Зачем ограничивать себя настоящим, локальным, если можно позволить себе жить в разных эпохах и культурах? Эклектика — естественная эволюция культуры, имеющей выбор». То же самое настроение получает отзвук у Лиотара: «Эклектика — это нулевая степень современной (contemporary) всеобщей культуры: один и тот же человек слушает регги, смотрит вестерн, ест на обед еду из Макдональдса и блюда местной кухни на ужин, надевает парижскую одежду в Токио и вещи в стиле ретро в Гонконге».
География дифференцированных вкусов и культур оборачивается попурри интернационализма, которое из-за своей беспорядочности во многих отношениях тревожит больше, чем то беспокойство, что некогда вызывал высокий интернационализм. Вкупе с масштабными миграционными потоками (не только труда, но и капитала) это явление в изобилии порождает «маленькие» Италии, Гаваны, Токио, Кореи, Кингстоны и Карачи, а заодно и чайнатауны, barrios латиноамериканцев, арабские кварталы, турецкие районы и т.п. Однако в результате даже в таком большом городе, как Сан-Франциско, где различные меньшинства в совокупности составляют большинство, реальная география замалчивается посредством конструирования образов и реконструкций, костюмных драм, постановочных этнических фестивалей и т.д.
Эта маскировка возникает не только из постмодернистской склонности к эклектическому цитированию, но и из явной зачарованности поверхностностью в различных его проявлениях. Джеймисон, например, считает, что светоотражающие стеклянные поверхности отеля Westin Bonaventure служат «отталкиванию города вовне», точно так же как отражающие солнечные очки не позволяют видеть глаза смотрящего сквозь них, что способствует «особенному и отчужденному отделению» отеля от его окружения.
Неестественные колонны, орнаменты, масштабное цитирование различных стилей (во времени и пространстве) придает большей части постмодернистской архитектуры то ощущение «отсутствия глубины», на которое сетует Джеймисон. Тем не менее эта маскировка заключает в себе конфликт между, к примеру, историзмом того или иного объекта, укорененного в пространстве, и интернационализмом стиля, почерпнутого из musée imaginaire, между функцией и воображением, между задачей производителя означить что-либо и желанием потребителя воспринять послание.
За всей этой эклектикой (особенно за эклектикой исторического и географического цитирования) сложно разглядеть какой-то определенный целенаправленный проект. Однако здесь, как представляется, присутствуют эффекты, которые сами по себе настолько целенаправленны и широко распространены, что сложно не приписать им простой ряд организующих принципов. Проиллюстрирую этот тезис на одном примере.
«Хлеба и зрелищ» — такова старинная и хорошо проверенная формула социального контроля. Она часто сознательно применялась для умиротворения беспокойных или недовольных групп населения. Однако зрелище может быть и важным аспектом революционного движения — смотрите, например, исследование Моны Озуф о фестивалях как способе выражения революционной воли в ходе Великой французской революции. В конечном счете не Ленин ли называл революцию «праздником народа»? Зрелище всегда было мощным политическим оружием. Каким же образом городское зрелище использовалось в последние несколько лет?
В больших городах США городское зрелище в 1960-х годах формировали массовые оппозиционные движения того времени. Демонстрации за гражданские права, уличные бунты и восстания в городских гетто, масштабные антивоенные демонстрации и контркультурные события (в особенности рок-концерты) были зерном для переполненных жерновов городского недовольства, которые вращались вокруг оси в виде модернистских проектов городской реконструкции и массового жилья. Но начиная примерно с 1972 года городское зрелище было захвачено совершенно другими силами и поставлено на службу совершенно иным целям. Одновременно типичным и показательным примером выступает эволюция городского зрелища в таком большом городе, как Балтимор.
Вслед за волнениями, которые последовали после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году, в Балтиморе образовалась небольшая группа влиятельных политиков, профессионалов и лидеров бизнеса, которые решили понять, существует ли какой-либо способ воссоединения города. Усилия 1960-х годов по реконструкции города привели к появлению высокофункционального и строго модернистского даунтауна, состоявшего из офисов, площадей (plazas) и временами выразительной архитектуры типа здания One Charles Center Миса ван дер Роэ. Но беспорядки угрожали жизнеспособности даунтауна и рентабельности уже сделанных инвестиций. Поэтому лидеры искали символ, вокруг которого можно выстроить идею большого города как сообщества такого города, который обладал бы достаточной верой в себя, чтобы преодолеть разделения и менталитет осажденной крепости, существовавший в восприятии даунтауна и его публичных пространств обычными горожанами.
«Порожденный необходимостью сдерживать страх, а также неправильным использованием пространств даунтауна, вызванных гражданскими беспорядками в конце 1960-х годов, Городской фестиваль Балтимора изначально был… способом продвижения городского редевелопмента», — гласил постфактум отчет Департамента жилищного и городского развития США. Но фестиваль, изначально нацеленный на то, чтобы отдать должное разнообразию районов и этнического состава населения города, свернул с пути стимулирования этнической (не расовой!) идентичности. Если в первый год проведения фестиваля (1970) его посетило 340 тыс. человек, то к 1973 году количество гостей выросло примерно до 2 млн. Фестиваль, всё более масштабный, но шаг за шагом с неизбежностью всё менее «соседский» и всё более коммерческий (даже этнические группы стали зарабатывать на продаже своей этничности), стал ключевым событием в постоянном процессе привлечения на территорию даунтауна все больших толп, где им показывали всевозможные постановочные зрелища.
Отсюда было совсем недалеко до институционализированной коммерциализации более или менее постоянного зрелища в виде строительства Harborplace (комплекса на набережной Балтимора, который сейчас, как утверждается, привлекает больше людей, чем Диснейленд), Научного центра, Аквариума, Конгресс-центра, яхтенной марины, бесчисленных отелей — цитаделей всевозможных удовольствий. Многие видели в подобной форме развития города выдающийся успех (хотя её влияние на городскую бедноту, бездомных, здравоохранение, обеспечение образованием было ничтожным, а возможно, даже и негативным), однако она требовала архитектуры, совершенно отличавшейся от строгого модернизма, который преобладал при реконструкции даунтауна в 1960-х годах. Архитектура зрелища с её ощущением поверхностного блеска и временного участия в удовольствиях, ощущением показухи и эфемерности, jouissance стала принципиальным моментом для успеха любого проекта подобного рода.
<…>
Деконструктивизм и критика эклектики
Эклектика и популярная образность стали подвергаться жёсткой критике именно из-за отсутствия в них теоретической жёсткости и в связи с их популистскими концепциями. Самая сильная линия аргументации в настоящее время исходит из лагеря, именуемого «деконструктивизмом».
На момент написания книги Харви наиболее значимым представителем деконструктивизма в архитектуре был немецкий теоретик и практик Питер Айзенман (которого такой теоретик архитектурного постмодернизма, как Чарльз Дженкс, примечательным образом относил к поздним модернистам), однако настоящий взлет деконструктивизма в лице Даниеля Либескинда и Захи Хадид произойдет уже в 1990-х годах.
В качестве составной части противодействия тому, каким способом большинство представителей постмодернистского движения пополнили ряды мейнстрима и породили невзыскательную и чрезмерную популяризированную архитектуру, деконструктивизм стремится восстановить высокую основу элитных и авангардных архитектурных практик путем активной деконструкции модернизма русских конструктивистов 1930-х годов.
Это движение отчасти заслуживает внимания благодаря своей намеренной попытке сплавить деконструктивистское мышление, почерпнутое из теории литературы, с постмодернистскими архитектурными практиками, которые, как часто представляется, развились в соответствии с некоей собственной логикой. Деконструктивизм разделяет внимание модернизма к исследованию чистой формы и пространства, но делает это за счёт восприятия здания не как единого целого, а как «разделённых “текстов” и частей, которые остаются самостоятельными и несостыкованными, не достигая ощущения единства», в связи с чем они могут быть подвергнуты «нескольким асимметричным и несовместимым» прочтениям. Однако чертой деконструктивизма, объединяющей его с большей частью постмодернизма, является его стремление отразить «непокорный мир, подчинённый набрасывающейся на него моральной, политической и экономической системе». Но он делает это «дезориентирующим, даже смущающим образом» и тем самым ломает «привычные способы восприятия формы и пространства». Центральными темами остаются фрагментация, хаос, беспорядок даже внутри кажущегося порядка.
Фикция, фрагментация, коллаж и эклектика — всё это в смешении с ощущением эфемерности и хаоса, вероятно, оказывается темами, которые доминируют в сегодняшних практиках архитектуры и городского проектирования. И здесь, очевидно, есть немало общего с практиками и теориями во многих других сферах, таких как искусство, литература, социальная теория, психология и философия. В таком случае, каким образом это преобладающее настроение принимает свою нынешнюю форму? Для сколько-нибудь убедительного ответа на этот вопрос требуется прежде всего критически рассмотреть всемирные реалии капиталистического модерна и постмодерна, что позволит увидеть, какие здесь могут содержаться ключи к возможным функциям подобных фикций и фрагментаций в воспроизводстве социальной жизни.
IQ
24 марта
Подпишись на IQ.HSE
Добрицына И. А. От постмодернизма — к нелинейной архитектуре : Архитектура в контексте современной философии. — Москва, 2004
От постмодернизма — к нелинейной архитектуре : Архитектура в контексте современной философии / И. А. Добрицына. — Москва : Прогресс-Традиция, 2004. — 416 с., ил. — ISBN 5-89826-178-8
Книга подтверждает тезис о том, что архитектурная дисциплина обладает способностью выбора и внедрения новых стратегий, в построении которых она опирается на собственную память или на заимствования из широкого культурного контекста — философии, науки, техники. Архитектура ассимилирует внешние влияния ради воспроизводства собственной сущности.
Автор исследует сложный поворот архитектурного мышления, произошедший в последней трети XX века, начавшийся с постмодернистского и деконструктивистского противостояния идеологии модернизма и подготовивший появление новой, нелинейной парадигмы.
Нелинейное (иначе — топологическое, техногенное, дигитальное) направление рассматривается как одно из перспективных: оно приводит архитектуру в согласие с современной моделью мира как «живого организма», утверждает эстетику свободной формы, развивается в тесном союзе с новейшими техниками компьютерного моделирования, оказывает сильное воздействие на парадигматический сдвиг в архитектуре начала XXI века.
Книга адресована архитекторам, искусствоведам и всем, кто интересуется современными направлениями развития культуры.
Введение
К моменту перелома XX—XXI веков, за период, длящийся более трех десятилетий, произошли существенные перемены в профессиональном мировоззрении архитектора. Нам представляется важным рассказать об особенностях связи архитектурного сознания с философией, наукой, новой технологией этого времени, а также об основаниях жизнестойкости архитектуры, утверждающей собственную философию архитектурной формы.
Архитектура как искусство порождения архитектурной формы — это сложная эволюционирующая система, способная в своем развитии опираться на внутренние силы. В этом она подобна органической системе, переживающей периоды стабильных состояний и периоды кризисов, нестабильности, брожения. Нестабильность мобилизует скрытые энергии архитектуры, актуализирует ее способность к специфическим соединениям с культурным контекстом — исключительно ради прорыва к новым принципам формообразования. Таким контекстом для архитектуры выступает культура в целом — все виды искусства, философия, наука, религия, техника и технология, социальные процессы, политика. Так эволюционирует язык архитектуры.
Архитектура практически всегда шла в ногу с познанием мира, являясь одной из его форм, как всякое искусство, опиралась на весь культурный контекст. Философия и наука были неотъемлемой частью мировоззренческой позиции архитектуры примерно до середины XVIII века, до той поры, пока и философия, и наука не начали интересоваться самой природой познания, что впоследствии привело к появлению неклассической философии. Современный философ Ричард Рорти пишет: «Около двухсот лет тому назад представление о том, что истина создается, а не открывается, стало завоевывать воображение Европы»¹. Черты неклассической философии проявлялись и в XIX веке. Творчество Ницше принято считать водоразделом между классической и неклассической философией.
____________
¹ Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 22.
В XX веке в философии рождается множество неклассических направлений, в искусстве происходят революционные прорывы, наука ставит под сомнение устоявшиеся формулировки законов природы. Появление теории относительности, квантовой механики, волновой механики обозначило кризис аналитического подхода в науке, кризис «картезианской эпистемологии», зарождение неклассической науки. Философия науки, развитая физиком Гастоном Башляром в 30-е годы, закрепила диалектику пересмотра прошлого, своего рода «переворачивания перспективы».
Однако неклассическая наука начала и середины века не была воспринята архитектурой в момент ее созревания, она будет востребована позже, почти в самом конце века, одновременно с новой наукой. Что касается так называемой неклассической философии, то и она была усвоена архитектурой на протяжении века лишь частично. Причина — в специфической инертности архитектуры, всегда обремененной своей материальностью и необходимостью обеспечивать жизненно важные функции. В XX веке архитектура была вынуждена взаимодействовать со стремительно меняющимся культурным контекстом весьма избирательно. Так, в начале века архитекторов завораживает авангардный прорыв в живописи кубизма и футуризма, стремительный прогресс техники, в том числе строительной, увлекает ряд идей утопической политики. Совокупность этих импульсов привела к фундаментальному разрыву с эстетикой классики и надолго определила мировоззренческую сущность и эстетику архитектуры. Архитектурный модернизм — это сорокалетний период стабильности. Его эстетика отчасти впитала ницшеанские идеи — воли к власти, утверждения сверхчеловека, — отразившиеся в раскованности сверхмасштабных композиций классического модернизма, в глобализирующей идее интернациональной архитектуры. Однако и в целом, и на уровне формального языка эстетика модернизма в архитектуре весьма жестко срослась с философскими идеями, высказанными давно, в Новое время, а именно с картезианской идеей геометрической упорядоченности Вселенной. И тогда как в других видах модернистского искусства возникают внутренние течения (дадаизм, сюрреализм), архитектура долго не меняет вектора своего движения. Постепенно модернизм становится герметичной структурой, заложником бурно развивающейся строительной индустрии. Противопоставивший себя всей архитектурной классике, модернизм просто по определению не является классическим направлением. Однако, дистанцируясь от всей истории, модернизм все же удержал в себе черты классического канона — сохранил претензию на универсальность «на века», принцип следования образцу. Совершенствуя эстетику чистой геометрии, модернизм в архитектуре постепенно стал классикой XX века.
Архитектура последнего тридцатилетия XX века демонстрирует диалектику расшатывания модернистского стереотипа, усиленный поиск все новых принципов формообразования. В 1960—1970-е годы оказались востребованными идеи целой плеяды философов неклассической традиции, стали осваиваться некоторые представления неклассической науки. Так, профессиональные архитектурные инвайронменталистские концепции на Западе в 1970-е годы складывались не без влияния аналитической психологии Карла Густава Юнга, феноменологии Мирче Элиаде, экзистенциализма Отто Фридриха Больнова. Архитектора интересовали концепции глубинного подсознательного. В России практически синхронно с западными исследованиями среды развивалась парадигма «средового подхода».
Гораздо более сложным для теоретического осмысления оказался период длиною в 30 лет, прошедший на Западе под знаком постмодернистской культуры, которому и посвящена данная работа. Несмотря на то, что современный российский архитектор хорошо знаком с архитектурой постмодернизма и деконструктивизма, имеет представление о новейших экспериментах нелинейной архитектуры, весь этот опыт радикальных перемен еще не пережит на глубинном уровне сознания.
Постмодернизм и деконструктивизм, на первый взгляд столь разнонаправленные течения в архитектуре, по существу выступают как различные стратегии разрушения отживающего стереотипа и одновременно как созидательные стратегии формообразования. Весьма характерно, что в конце 70-х годов для создания новой формообразующей стратегии архитектура обратилась прежде всего к собственным «энергетическим» ресурсам — к своей истории, с помощью техники коллажа сообщая образам прошлого новые импульсы жизни. Ранний архитектурный постмодернизм созревал на фоне слияния профессионального мировоззрения с идеями постнеклассической французской школы гуманитарного познания — постструктурализмом 70-х, ориентированным на семиотическое истолкование реальности, на представление о мире как о «тексте» (Жак Деррида, Мишель Фуко, Ролан Барт и др.). Постмодернистская архитектура — первая альтернатива модернизму, первая попытка уйти, совершив искусственный и тотальный поворот, от философии и эстетики чистой геометрии к историческим образцам, столь радикально отвергнутым в 20—30-е годы XX века. Одновременно в архитектуре декларируется разрыв формы и функции. Эта операция проводится на фоне придания самому архитектурному объекту статуса «текста». Тем самым архитектура освобождается от предписаний композиции. Семиотическая прививка, совершенно неорганичная для архитектуры (семиотика ведь не порождающая дисциплина, а описывающая), сопровождающаяся введением аналитической процедуры в процесс создания формы, сделана ради отторжения формального стереотипа модернизма, ради методологического и лексического обновления процесса формообразования, в конечном счете ради новой образности. Задав свой вектор движения, построенный на связи с историей, архитектурный постмодернизм постепенно трансформировался, что позволило ему втянуть в свою орбиту постмодернистскую неоклассику, тесно связанную с философскими концепциями «архетипики» культуры.
Деконструктивистская архитектура, несущая в себе одновременно и разрушительный пафос, и модернистскую идею принципиальной внеисторичности, придерживалась иной формопорождающей стратегии. Ее эстетика «порушенного совершенства», «разрушительного созидания» также избавлена от власти логических композиционных построений и так же, как эстетика постмодернистской архитектуры, опирается на постструктуралистскую философскую основу (Деррида, Барт). Метод деконструкции заимствован из особого рода философских текстов — из деконструктивной литературной критики, продвинутой постнеклассической доктрины, имевшей в 70—80-е годы прошлого века огромный резонанс в культуре. Деконструкция, как известно, бросала вызов всем видам искусства, самой философии и науке. Деконструкция вынуждает архитектора прибегать к высокоинтеллектуальной аналитической процедуре «расчленения», или «декомпозиции», деконструируемого образца, понимаемого как «текст». В качестве такого образца выступает модернистский тип архитектуры.
Собственно постмодернистская философия 80—90-х возникла как феномен осмысления революционных изменений в культуре и искусстве. Был сформулирован ряд фундаментальных установок: философия Другого (диалог), языковые игры, постмодернистская чувствительность (понимание мира как Хаоса), нерепрезентативность (разрыв семантики и синтаксиса, смысла и формы, функции и формы). Эти установки стали обладать силой обратного воздействия на состояние мысли в архитектуре. В целом же постмодернистская философия — это прямое отражение «состояния постмодерна», понимаемого как феномен культуры позднего капитализма.
Идеи теории сложности были в значительной степени усвоены архитектурой постмодернизма и деконструктивизма. Однако поворот в профессиональном мировоззрении произошел на фоне рождения новой науки.
В нелинейной постнеклассической науке главным стал концепт становления. Исследовательский интерес сместился с описания картин мира на описание механизма их изменения. Современная история мысли, познания, философии занята не восстановлением непосредственной преемственности знания — это не считается главным, — она «взыскует прерывности» (Фуко), реконструирует принципы, позволяющие различать типы, этапы или ступени становящегося знания.
Нелинейная логика компьютера дала возможность строить модели сложных объектов. Новая наука выяснила, что большинство объектов много сложней, чем представлялось. Постнеклассическая наука, опираясь на новую технологию, занимается сверхсложными системами, находящимися в постоянном дрейфе, в состоянии саморазвития. Каждая система — нелинейный мир. Нелинейная логика допускает и множественность картин мира. Произошел сдвиг в онтологии, так как теперь исследуется «становящееся бытие».
Ближе всех других философов к нелинейной науке оказался Жиль Делёз со своими работами «Складка. Лейбниц и барокко», «Тысячи плато». Известно, что в последних работах он уже выражал тревогу по поводу нелинейных опытов мышления, пытаясь наметить пути выхода из завораживающего, но непривычного и демонически неуютного мира нелинейности.
Радикальный жест архитектуры, реально означавший разрыв с модернистской эстетикой, — нелинейный эксперимент 90-х годов. Архитектура в конце 80-х жадно впитывала идеи теории сложности, теории хаоса, теории катастроф. Все эти новые, а с ними и все прошлые открытия неклассической науки XX века стали актуальными для архитектуры. Новая наука о форме, основанная на нелинейной фрактальной геометрии, родилась в середине 70-х годов, когда появились труды Бенуа Мандельброта.
Прорыв к новым, динамическим способам формообразования в архитектуре обеспечила компьютерная технология. Нелинейная архитектура — это попытка выйти за пределы евклидовой геометрии, построенной на рациональных формах, ограниченных гладкими поверхностями, к криволинейным поверхностям, принципиально несводимым к плоскости как таковой. В новой позиции архитектора нет идеи возврата к истории, нет идеи «переописания» модернизма. Эстетика нелинейной архитектуры 90-х в чем-то близка деконструктивистской, хотя образно тяготеет, скорее, к органической архитектуре, к гаудианскому и штейнеровскому модерну. Но если органическая архитектура перелома XIX—XX веков была рукотворна, то нелинейная архитектура 90-х возникает как бы в соавторстве с компьютером и рассчитана на высокотехнологичное воплощение.
Теоретические концепции архитектуры рубежа столетий сосредоточены на согласовании ее собственной профессиональной парадигматики с новой и активно развивающемся сейчас междисциплинарном синергетическом научном парадигмой. Меняется подход к архитектурному объекту. Он все чаще рассматривается не как статичное образование, а как система, способная к росту и изменениям во времени. Принято считать, что архитектура «текста» уходит в историю. Архитектурное сознание движется от дискурса Жака Деррида к дискурсу Жиля Делёза. Однако семиотическая парадигма оставила след в профессиональном сознании, прочно вросла в парадигмальную конструкцию архитектуры. Постмодернистская парадигма в своей современной коммуникационной версии также укрепилась в архитектурном сознании. Без понятия Другого, без представлений о «становящейся» целостности, без понимания идеи языковых игр, например, невозможно работать с новейшими метафорами архитектуры, в частности нелинейной. Очевидно лишь то, что логика интерпретаций, враставшая в архитектуру одновременно с семиотическими методами, на переломе столетий уходит в прошлое.
Российская архитектура прирастает к культурному контексту западной архитектуры чуть более десяти лет. Высокая активность российской архитектуры, восстающей практически из небытия, четко отражает прорыв профессионального сознания в область ничем не сдерживаемой свободы формообразования. Главные интересы архитектурного истеблишмента — сохранение утонченности вкуса и стиля, работа в русле новейших тенденций западной архитектуры, создание авторских языков, удержание равновесия и престижа в сложном диалоге с заказчиком. Выработка новых принципов формообразования, требующая погружения в глубины новейших философских и научных представлений, для российского архитектора пока остается проблемой завтрашнего дня.
XXI век — это начало эры техногенной архитектуры. Нелинейные опыты середины 90-х были пробой сил в этом новом направлении. Диалог профессии с технонаукой пробуждает стихийные внутренние силы архитектуры, усиливая интенцию к отбору вариантов развития, способствующих сохранению ее стабильности.
Архитектура как система в начале третьего тысячелетия вошла в «режим с обострением». С одной стороны, идет ускоренный процесс «дигитализации» и глобализации, оцениваемый весьма противоречиво — и как фактор, заставляющий развиваться архитектурный талант, и как способ устранения из проектного процесса таких непрогнозируемых вещей, как талант и озарение. Архитектор интуитивно чувствует притягательность новой эстетики дигитальной, техногенной архитектуры с ее новой метафизичностью, иллюзорностью, иррациональностью. С другой стороны, нарастает тенденция сдерживающего начала. Осмысленное противопоставление сущностных оснований архитектуры всему сверхновому усиливается. Архитектура «растянута» между двумя полюсами, и, по-видимому, это растяжение достигло предельных величин.
В книге подчеркивается важность феноменологической составляющей профессионального мышления архитектора. Фундаментальный онтологический характер феноменального слоя сознания, на который опирается архитектура в своем познании мира, позволяет ей удерживать и воспроизводить себя как систему. Создание новых языковых форм, сменяющих устаревшие, — это непредсказуемое переплетение случайностей и порядка, «одновременно случайное и логичное движение вещей» (Мерло-Понти). Новая архитектурная форма, новый язык опирается на динамическое слияние, сращивание и взаимопереплетение внутреннего и внешнего, своего и Другого, логичного и случайного. Именно в этом переплетении рождается своя философия — философия архитектурной формы. Архитектор как бы изнутри участвует в артикуляции бытия. Опираясь априорно на собственные интуиции пространства и времени, он философствует на языке формы. «Телесность» как особая черта его творчества и сегодня помогает ему пребывать в конструктивном диалоге с миром.
Архитектура — познавательная деятельность и род философии. Язык этой философии есть архитектурная форма. Структура архитектурного произведения может быть рассмотрена как интуитивный феноменальный аналог картины реальности, каковой она предстает в философии современной науки, в современной космологии. Будучи особой формой познающего разума человека, архитектура призвана обнажать фундаментальные, сущностные проблемы времени, встающие перед человечеством, и более того — претворять их в собственно бытие.
Современная архитектура в ее диалоге с внешним контекстом опирается и на новую философию, постигающую «ничто», на философию «игры ума», и одновременно на прежнюю философию, продолжающую постигать «сущностное», на философию духа, традиционно объясняющую смысл жизни, позволяющую строить иллюзии, создавать мифы, отвечая жизненной потребности человека. Однако особая философия самой архитектуры, способствующая познанию мира, обращена к феноменологической интуиции самых пронзительных, опережающих форм познания. Архитектура строит свой миф о Вселенной, и, по-видимому, сила современной нам философской позиции зодчего — в овладении техногенным мифом и укреплении мифа антропосохранного.
Если постулировать архитектуру как «живую», жизнеспособную и эволюционирующую, а значит, и самоорганизующуюся систему, то всякое усвоение внешнего по отношению к ней контекста может происходить тем более успешно, чем устойчивей окажутся сущностные основы самой архитектуры. Устойчивость архитектуры в ускоряющемся техногенном мире, ее способность воспроизводить саму себя как систему заключена в опоре на собственную историческую память. Архитектура всегда занята не только порождением форм среды обитания человека, но и самим человеком как биофеноменом, социофеноменом, носителем разума.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ …5
Глава 1. АРХИТЕКТУРА И ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КУЛЬТУРА ..13
Эра интерпретационного мышления …15
Метод деконструкции и стратегия интерпретации..29
Постмодернизм: от философии к поэтике.41
Глава 2. ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ «БЕЗ ПРАВИЛ» .53
Подходы к описанию неклассической поэтики ..55
Диалогическая поэтика .60
Глава 3. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ АРХИТЕКТУРА .69
Художественный код постмодернистской архитектуры .71
Метафорическая эссеистика как основа архитектурного дискурса 89
Постмодернистская метафора: метафизика, ирония, диалог .93
Глава 4. ОТ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА К НЕЛИНЕЙНОСТИ …103
Деконструктивизм в потоке истории: «на гребне промежутка» …105
Путь к поэтике неопределенности…135
Глава 5. НЕЛИНЕЙНАЯ АРХИТЕКТУРА В НЕЛИНЕЙНОМ МИРЕ .159
Дух новой архитектуры.161
Понятие нелинейной системы..165
Влияние новых представлений в биологии .167
Осмысление нелинейной парадигмы в архитектуре …170
Морфология нелинейности..187
К новой целостности?..216
Глава 6. «НЕРАВНОВЕСНОЕ» СОСТОЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ.217
Архитектурное сознание конца XX столетия ..219
«Школа рыбы» Джеффри Кипниса ..232
Концепция «формы-движения» Грега Линна..235
Опыт работы со «становящейся» целостностью.241
Криволинейные оболочки конца 1990-х.246
Архитектурный объект как «поле» .248
Глава 7. «ЭЛЕКТРОННОЕ БАРОККО» .261
Феномен киберпространства .263
Архитектура в сети Интернет ..265
Проблемы и концепции виртуальной архитектуры.273
«Электронное барокко» ..286
К реализации виртуального опыта .295
Глава 8. ТЕХНОГЕННАЯ АРХИТЕКТУРА. ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ..301
Компьютерные техники и трансформация проектного процесса.303
Необходимость расширения парадигмы формообразования ..315
Эволюционистская позиция в генезисе архитектурной формы .320
Ценность новейших техник моделирования формы.337
Глава 9. РОССИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ . .341
Свобода языкотворчества в российской архитектуре 1990-х..343
Постмодернистский опыт неостилей в московской архитектуре ..353
Между работой «в стилях» и интуицией новейшей эстетики…360
Глава 10. РЕАЛИИ АРХИТЕКТУРЫ НАЧАЛА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ .367
Кризис в отношениях архитектуры с культурным контекстом .369
Критика техногенного вектора науки и культуры…370
Формирование антропосохранной концепции в культуре.376
Идея коэволюции в культуре …377
Архитектура как способ познания мира и сотворения бытия .379
Два вызова архитектуре..380
О тенденции индивидуализации «языка» ..387
Осмысленность позиции архитектора ..390
ПРИМЕЧАНИЯ …392
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН…400
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ..405
ARCHITECTURE’S OUTLINE, 1970—2000 .409
Примеры страниц
Все авторские права на данный материал сохраняются за правообладателем. Электронная версия публикуется исключительно для использования в информационных, научных, учебных или культурных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В случае возникновения вопросов в сфере авторских прав пишите по адресу [email protected].
Библиотека портала Tehne.com работает при поддержке АО «Прикампромпроект». АО «Прикампромпроект» выполняет комплекс проектных услуг — от обоснования инвестиций и инженерных изысканий до разработки проектно-сметной документации объектов гражданского и промышленного назначения. |
Постмодернистский классицизм 1980-х • Современная архитектура
Архитектор ФуджиПри всей влиятельности слова в культуре XX века, объединяющий магнетизм предложенной Дженксом формулы -постмодернистская архитектура» иссякал.
+Закрепить его Дженкс надеялся, используя международную выставку Венецианского биеннале искусств 1980 г., чтобы повторить результат Штутгартской выставки 1927 г., сделавшей модернизм «интернациональным стилем». Но оргкомитет Биеннале, возглавленный Паоло Портогези, отверг -постмодернизм» как обязательный «лейбл» участников.
Было решено посвятить выставку новой тенденции, не называя термин, но утверждая его смысл — выход за пределы ограничений, которые накладывал ортодоксальный модернизм. Главным лозунгом избрали -Присутствие прошлого».
«Я хотел дать выставке тему .Присутствие прошлого» потому, что со времени, когда стал заниматься архитектурой, убедился, что архитектуре следует вернуть ее, так сказать, физиологическое состояние; по моему мнению… архитектура всегда рождается из другой архитектуры, которая родилась прежде нее», — утверждал Портогези. Плакат выставки гласил: «Вновь возможно учиться у традиции и связывать свое произведение с утонченными и прекрасными произведениями прошлого»23.
Выставка расположилась в протяженном корпусе венецианского арсенала (кон.XVI в.), три нефа которого разделены рядами кирпичных тосканских колонн. Десять пролетов среднего нефа стали стержнем экспозиции — «Новейшей улицей» — «Strada Novissima».
По обеим ее сторонам 20 основных экспонентов показали 20 смыкающихся фасадов — воплощений их творческого «я». Возник образ отвергнутой модернизмом и возрождаемой улицы-коридора и, в то же время, — единый контекст самовыражения. Предпочтение фасадам объяснялось приоритетностью единства городской ткани, которой они принадлежат, перед самоценностью отдельного объекта.
Самой яркой метафорой прошлого, воспринятого через барьер постмодернистской иронии, стал фасад, придуманный австрийцем Хансом Холляйном. Отведенный ему интервал он заполнил псевдопортиком, на флангах которого стояли копии тосканских колонн Браманте, а в ряду с ними — макет конкурсного проекта небоскреба «Чикаго Трибюн» Адольфа Лооса (1923) в виде тосканской колонны, разрушенная колонна без нижней части ствола, подвешенная за капитель, и цилиндр из стриженой зелени.
Работа Холляйна представляла некую среднюю тенденцию. Радикалы — американцы — основывались на эстетике поп-артовского гротеска. Вентури показал версию «Эклектического дома», Стерн и Мур — иронические намеки на классическое, введенные в основу, исходящую от поп-культуры.
Консерваторами выглядели Т. Г. Смит с вариацией на темы Борромини, Л. Крир и П. Портогези, исходившие от венецианского вернакулара, Р. Бофилл с утрированно-монументальным классицизмом.
Эпштейн Михаил
Истоки и смысл русского постмодернизма
В кн .: Михаил Эпштейн. После будущего: Парадоксы постмодернизма и современной российской культуры , Амхерст: Массачусетский университет, 1995, стр. 188-210.
Концепция постмодернизма в незападных культурах в последнее время активно обсуждается.В частности, может ли вообще существовать постмодернизм за пределами западной культуры, и если да, то есть ли один постмодернизм, общий для США, Франции, Германии, Польши, России, Японии и так далее? Или разных постмодернизмов столько же, сколько и национальных культур?
За последние два-три года эта дискуссия развернулась и в России. Еще в конце 1980-х «постмодернизм» был довольно экзотическим термином, который служил интеллектуальным интеллектуалам своего рода шибболетом.Однако очень быстро это стало клише, которое можно было повторять почти в каждой критической статье. Судя по частоте его провозглашения, можно подумать, что постмодернизм стал самым массовым и активным движением в современной русской литературе. Чтобы процитировать одного влиятельного молодого критика,
. . . Сегодня постмодернистское сознание, продолжая свое успешное и улыбающееся расширение, остается, вероятно, единственным живым эстетическим фактом во всем «литературном процессе». Сегодня постмодерн — это не просто мода, он составляет атмосферу; кому-то это может нравиться или нет, но только оно сейчас действительно актуально.. . / это / является наиболее важной, наиболее эстетически актуальной частью современной культуры, и среди ее лучших примеров есть просто отличная литература.
Более того, несколько конференций в Москве теперь были посвящены исключительно постмодернизму, и многие из самых прогрессивных критиков и писателей России теперь клянутся этой священной концепцией.
На ум приходит лишь еще один пример такого единодушного общественного энтузиазма, вдохновленного литературной концепцией: официальное провозглашение и утверждение «социалистического реализма» в 1934 году как единого всеобъемлющего метода всей советской литературной практики.Я попытаюсь показать, что эта параллель не произвольна: то, что в современной России называется постмодернизмом, является не только ответом на его западный аналог, но также представляет собой новую стадию развития того же художественного менталитета, который породил социалистический реализм. Кроме того, оба этих движения, социалистический реализм и постмодернизм, на самом деле являются компонентами единой идеологической парадигмы, глубоко укоренившейся в русской культурной традиции.
Я надеюсь, что мои предложения будут поняты не как строгие теории, а скорее как свободные гипотезы, которые могут оказаться особенно важными для понимания беспокойного состояния современной постсоветской культуры, которая сама находится в очень гипотетическом переходном периоде.
1.
Я сознательно назвал эту статью в честь известного произведения Николая Бердяева « Истоки и смысл русского коммунизма » ( Истоки и смысл русского коммунизма , Париж, 1955). Коммунистические учения пришли в Россию из Западной Европы и поначалу казались совершенно чуждыми этой отсталой, полуазиатской стране; однако Россия оказалась первой страной, которая попыталась применить эти учения в мировом масштабе.Бердяев убедительно показал, что коммунизм был тесно связан со всем «общинным» духом российской истории, уходящим корнями в глубь веков, задолго до того, как марксизм стал известен где-либо в стране.
На мой взгляд, тот же парадокс относится и к проблеме русского постмодернизма. Как явление, которое кажется чисто западным, в конечном итоге обнаруживает свою длительную близость с некоторыми принципиальными аспектами русских национальных традиций.
Среди разнообразных определений постмодернизма я бы выделил наиболее важным создание реальности как серию правдоподобных копий, или то, что французский философ Жан Бодрийяр называет «симуляцией».«Другие черты постмодернизма, такие как исчезновение всеобъемлющих теоретических метанарративов или упразднение противопоставлений между высоким и низким, элитарной и массовой культурой, по-видимому, вытекают из этого феномена гиперреальности. Модели реальности заменяют саму реальность, которая затем становится невосполнимой
Действительно, более ранние преобладающие движения в западной культуре двадцатого века, такие как авангардизм и модернизм, имели тенденцию быть элитарными, поскольку противопоставляли себя реальности массового общества либо из-за своего отчуждения от него (в случае модернизм) или потому, что они стремились преобразовать его в революционных целях (в случае авангардизма).Что касается метанарративов, таких как марксизм и фрейдизм, их главная цель состояла в том, чтобы разоблачить иллюзии или идеологические извращения сознания, чтобы раскрыть подлинную реальность материального производства, в случае первого, или либидинальную энергию, для последнего. . Однако как только само понятие реальности перестало действовать, эти метанарративы, апеллировавшие к реальности, а также элитарные искусства, которые ей противостояли, начали ослабевать.
Авторитет принципа реальности служит основой великих традиций западной философии, науки и техники и, таким образом, может считаться краеугольным камнем всей западной цивилизации.Согласно этому принципу реальность следует отличать от всех продуктов человеческого воображения, и можно использовать практические средства для установления истины как формы соответствия между культурными концепциями и реальностью. Наука, технология и даже искусство стремились разрушить различные субъективные иллюзии и мифологические предрассудки, чтобы достичь сущности реальности с помощью объективного познания, практического использования и реалистичного подражания соответственно. Последние великие метанарративы западной цивилизации, Маркс, Ницше и Фрейд, все еще охвачены этой одержимостью фиксацией реальности, поскольку они неустанно пытаются демистифицировать все иллюзорные продукты культуры и идеологии.
В течение двадцатого века, однако, неожиданный поворот превратил эти весьма реалистичные и даже материалистические теории в их собственные противоположности. Хотя марксизм, фрейдизм и ницшеанство апеллировали к реальности как таковой, они одновременно создали свои собственные идеологизированные и эстетизированные версии реальности, а также новые изощренные инструменты политического и психологического манипулирования. Сама реальность исчезла, уступив место этим утонченным и провокационным теориям реальности и, более того, практическим способам ее создания.Теперь, в конце двадцатого века, мы производим саму объективность, а не просто отдельные объекты.
Другими словами, то, что мы сейчас видим как реальность, является не чем иным, как системой вторичных стимулов, предназначенных для создания ощущения реальности, именно то, что Бодрийяр называет «симуляцией». Несмотря на любые видимые сходства, симуляция противоположна тому, что понималось как «имитация» в эпоху Возрождения или Просвещения. Подражание было попыткой представить реальность как таковую, без субъективных искажений.Моделирование — это попытка заменить реальность теми образами, которые на кажутся на более реальными, чем сама реальность.
Создание реальности кажется новым для западной цивилизации, но оно регулярно осуществлялось на протяжении всей российской истории. Здесь идеи всегда имели тенденцию заменять реальность, начиная, возможно, с князя Владимира, который принял идею христианства в 988 году нашей эры и начал внедрять ее в огромной стране, где до того времени она была практически неизвестна.
Петр Великий повелел просвещать Россию и активно внедрял такие нововведения, как газеты, университеты и академии. Эти институты возникли в искусственных формах, неспособных скрыть свою преднамеренность, вынужденный характер своего происхождения. По сути, мы имеем дело с симулятивным или номинативным характером цивилизации, состоящей из правдоподобных ярлыков: это «газета», это — «академия», это — «конституция», ни одна из которых не выросла естественным образом. из национальной почвы, но был имплантирован сверху в виде гладко остриженных веточек в надежде, что они могут пустить корни и прорасти.Слишком многое в этой культуре происходило из идей, схем и концепций, которым подчинялась действительность.
В своей книге « Россия в 1839 году » маркиз де Кюстин описал симулятивный характер русской цивилизации, в которой план, предыдущая концепция, более реален, чем производство, вызванное этим планом.
У русских все только по названиям, а на самом деле ничего. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки — у них есть «общество», «цивилизация», «литература», «искусство», «науки», но на самом деле у них даже нет врачей.Если вам довелось вызвать русского врача из своего района, вы можете заранее считать себя трупом. . . Россия — это империя каталогов: если пролистать названия, все кажется прекрасным. Но. . . откройте книгу и обнаружите, что в ней ничего нет. . Сколько городов и дорог существуют только как проекты. Что ж, вся нация, по сути, не что иное, как плакат, наклеенный на Европу. . .
Эту негативную реакцию можно отнести к предрассудкам иностранца, но Александр Герцен, например, считал, что де Кюстин написал увлекательную и умную книгу о России.Более того, не менее приверженец национальных корней России, чем Иван Аксаков, один из самых искренних и ярых славянофилов XIX века, придерживался аналогичного взгляда на «Империю каталогов». Он признал понятия «преднамеренность» и «подделка» фундаментальными для своей родной цивилизации:
Все в нашей стране существует «как будто», ничто не кажется серьезным, подлинным; вместо этого все имеет вид чего-то временного, фальшивого, выставленного на показ — от мелких до крупномасштабных явлений.«Как будто» у нас есть законы и даже 15 томов свода законов. . . тогда как половина этих институтов на самом деле не существует, а законы не соблюдаются.
Кажется, что даже синтаксические конструкции комментариев де Кюстина и Аксакова совпадают: в первом говорится, что «у них есть общество … но на самом деле», а во втором замечается, что «у нас есть законы … тогда как в реальность … » Оба этих автора с диаметрально противоположных точек зрения указывают на «половинчатый» и химерический характер русской цивилизации.Для де Кюстина он недостаточно европейский; для Аксакова, недостаточно русский. Но результат тот же: показная, мошенническая природа цивилизации порождает внешние, поверхностные формы, лишенные как подлинного европейского, так и внутреннего русского содержания, и остается царством имен и внешних проявлений.
Эта цивилизация, целиком состоящая из имен, раскрывает свою природу в русском постмодернистском искусстве, которое показывает нам ярлык, удаленный от абсолютной пустоты. Концептуализм, например, преобладающее направление в русском искусстве 80-х — начала 90-х годов, представляет собой набор таких этикеток, набор фасадов, лишенных остальных трех сторон.
2.
Самым грандиозным симулякром, или «концептом», выражающим симулятивную природу русской цивилизации, был, конечно, Санкт-Петербург: город, воздвигнутый на «финском болоте». «Санкт-Петербург, самый абстрактный и продуманный / umyshlennyi / город во всем мире», — по словам Достоевского, который чувствовал, что действительность города целиком состоит из вымыслов, замыслов, бреда и видений, вознесенных вверх, как тень над гнилой почвой, непригодной для строительства.
Неустойчивость была заложена в самое основание имперской столицы, которая впоследствии стала колыбелью трех революций. Осознание интенциональности и «идеальности» города, отсутствия твердой почвы, на которой можно было бы стоять, породило один из первых и самых гениальных литературных симулякров. По словам Достоевского:
Сотню раз среди этого тумана меня поражала странная, но назойливая задумчивость: «А что, если бы этот туман рассеялся и ушел наверх, разве весь этот гнилой слизистый город прочь с ним, разве он не поднимется вместе с туманом и не исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него для красоты, я думаю, бронзовый всадник на его горячем дыхании, измученная лошадь? / Курсив добавлен./
Это видение могло только что появиться на холсте концептуального художника, мастера постмодерна, такого как Эрик Булатов или Виталий Комар и Александр Меламид. Современный русский концептуализм возник не из имитации западного постмодернизма, а из того же гнилого петербургского тумана «назойливой мечты» Достоевского. Для концептуализма недостаточно показать, что «зимний город», великолепно и гордо воздвигнутый на болоте, есть тень и призрак, скрывающие подлинную реальность самого болота: его плотно застывшее испарение.Многие современные русские реалисты — не «соцреалисты», а строго критические, вроде Солженицына — ограничиваются именно этой задачей: изобразить болото, в котором все мы живем, и доказать, что оно неумолимо привлекает всех. нас в его бездну только для того, чтобы снова разорваться — здесь в стихийных бедствиях, там в социальных катастрофах. С другой стороны, концептуалисты более эксцентричны; они не только показывают нам болото под испарившимся городом, но и вбивают в него священный фрагмент этого города, фигуру основателя, на лбу которого навсегда застыла монументальная, созидательная мысль.
Что оправдывает такую концептуальную свободу, такой неуважительный юмор? Да уж, за красоту , думаю! Такова цель концептуальной эстетики: продемонстрировать полную реальность идеологических знаков в мире призрачных и аннулированных реальностей. Непреодолимый парадокс состоит в том, что памятник основателю находится на болоте, предшествовавшем городу, и переживет его. Разве это не архетипический феномен советской цивилизации, прославившейся в самых грандиозных проектах и утопиях в истории человечества? Эти планы и идеи возникли из голов их создателей только для того, чтобы вернуться туда, отлитые из железа, бронзы или гипса, застывшие в тяжелую «мысль на лбу».«И реальность промчалась мимо них, бешеная, как незамерзшая Нева, безумная, как Евгений, герой пушкинского« Медного всадника ». « Такая мысль у него на лбу! Какую силу он скрывает внутри! »Эти замечательные строки из повествовательной поэмы Пушкина, описывающие знаменитый памятник Петру Великому, подчеркивают парадокс: неодушевленный памятник может мыслить, , тогда как живой герой теряет сознание под его влиянием. идея, воплощенная в металле, подавляет и растворяет реальность.Бред рациональности, вакханалия непрерывной организационной лихорадки, как органчик (органчик) в голове градостроителя (вспоминая сверхъестественного персонажа «Угриум-Бурчеева» в « Истории города Салтыкова-Щедрина»). Town ) — таков самовоспроизводящийся механизм концептуального творчества.
Поэтому неудивительно, что призрак, блуждающий по Европе, как Маркс и Энгельс характеризовали коммунизм в первых строках «Манифест Коммунистической партии », прижился и стал реальностью в России.Эта страна оказалась особенно восприимчивой к ошибкам фантазий за настоящих существ.
После большевистской революции симулятивность реальности в России стала еще более явной. Вся общественная и частная жизнь была подчинена идеологии, которая стала единственной реальной силой исторического развития. Признаки новой реальности, которой так гордились советские граждане в тридцатые и пятидесятые годы, от массивной сталинской гидроэлектростанции на Днепре до решения Хрущева выращивать кукурузу и многочисленных автобиографий Брежнева, на самом деле были чистым идеологическим моделированием реальности.Эта искусственная реальность была призвана продемонстрировать превосходство идей над простыми фактами.
Коммунистические субботники в Советском Союзе были примерами гипер-событий, имитирующих «праздник труда» именно для того, чтобы стимулировать реальный труд. В Советском Союзе не признавался труд, кроме этого искусственного коммунистического энтузиазма, который якобы оправдывал идеи Ленина о «свободном труде». (Оба значения уместны в этой советской идиоме: «свободный» от эксплуатации, а также «свободный» с точки зрения того, что ему не платят.) Симуляция не является ложью, потому что последняя предполагает существование некоторой внешней реальности, которая может быть искажена или проверена. В случае советского общества реальность совпадала с теми идеями, которыми она описывалась; Таким образом, фактически он стал не чем иным, как созданием этих идей. Даже Солженицын не открыл для себя каких-либо радикально новых реалий, потому что все в Советском Союзе прекрасно знали о существовании «врагов народа» и «социально чуждых элементов», которые были заключены в сталинские трудовые лагеря.Идеология не лгала, а просто воссоздала мир по своему образу и подобию. Поэтому идеологический образ этого мира не мог быть иначе как актуальным и правдивым. Идеология не лгала; это был сам реальный мир, который имел тенденцию исчезать и растворяться в идеологических знаках.
Таков концептуальный уклон самой советской действительности: по сравнению с названием, «идеально» обозначающим определенное качество объекта, сам объект оказывается искривленным и находящимся в упадке.Наличие идеи колбасы противостоит отсутствию в ней настоящего мяса. Наличие плана изготовления противостоит отсутствию реального производства. Сыр или колбаса на Руси, далекие от материальных фактов, превратились в платоновские идеи. Концептуальное искусство играет на этом материальном опустошении концепций. Дмитрий Пригов, лидер современного российского концептуализма, написал в своем стихотворении об американском президенте Рональде Рейгане:
Рейган не хочет нас кормить
Ну да ладно, это действительно его ошибка
Это только там верят
Вы должны есть, чтобы жить
Но нам не нужен его хлеб
Будем жить своей идеей.. .
И действительно, довольно долгое время идея хлеба была в России более питательной, чем сам хлеб. Мистическая нехватка некоторых материальных элементов, замаскированных под эффектную презентацию их идеальных аналогов: это русская загадка, проявляющаяся на всех уровнях, от повседневно-экзистенциального до социально-государственного. Даже если наличие хлеба позволяет определить «идею» данного магазина как «кондитерские изделия», сахара в нем все равно нет. В экономической системе есть производители и потребители, но отсутствуют промежуточные элементы между ними, составляющие рынок.«Минус-система», в которой жили россияне, возникла как бы с холста художника-концептуалиста, где имена и ярлыки демонстрируют собственную пустоту и бессмысленность. Дороги ведут к исчезнувшим деревням; села расположены там, где нет дорог; строительные площадки не становятся зданиями; домостроителям негде жить. Цивилизацию этого типа можно определить как систему со значимым отсутствием существенных элементов, «общество дефицита». Призраки здесь более реальны, чем реальность, которая сама становится призрачной.
В определении гиперреальности Бодрийяра,
. . . территория больше не предшествует карте и не выживает на ней. Отныне это карта, предшествующая территории — ПРЕЦЕССИЯ СИМУЛАКРА — это карта, которая порождает территорию, и если бы мы возродили / басню Борхеса сегодня, это была бы территория, осколки которой медленно гниют. карта. Это настоящая, а не карта, чьи остатки существуют здесь и там, в пустынях, которые больше не принадлежат Империи, а являются нашими собственными. Сама пустыня настоящего .
Сегодня мы можем адресовать эту фразу «пустыня самого реального» непосредственно к тому, что осталось от Советского Союза. Эта страна изначально бедна не товарами, комфортом, твердой валютой, а самой реальностью. Все его недостатки и недостатки — лишь символы этой увядающей реальности; а сами символы составляют единственную сохранившуюся подлинную реальность.
Вспоминая потемкинские деревни более далекого прошлого России, нельзя не вспомнить их современную, постсоветскую адаптацию: явление, известное как «презентации» ( презентации ).Это слово было заимствовано в русский язык из английского примерно в 1990–1991 годах для обозначения церемонии официального открытия какого-либо государственного учреждения. Несмотря на то, что Россия беднеет и продолжает разваливаться изо дня в день, такие праздничные «презентации» сейчас в моде. Биржа или совместное предприятие, политическая партия или новый журнал официально представляют себя ( презентируется ) избранной аудитории. В течение семидесяти лет все эти институты западной цивилизации были изгнаны из нашего общества, но теперь оно жадно поглощает их социальным вакуумом.Необходимость таких формальных открытий указывает на внутренние ограничения этих предприятий: они не исходят органически от национальной культурной почвы. Подавляющее большинство этих предприятий и ассоциаций рушится в течение нескольких недель или месяцев, не оставляя о себе никаких воспоминаний, кроме своей великолепной презентации. Ни один из веселых участников таких пышных мероприятий, отмеченных длинными речами, икрой, бренди и устрицами, не засвидетельствовал бы, что объект их презентации доживет даже до следующего утра, но большинство полностью удовлетворены их включением в сегодняшнюю презентацию и ожиданием большего в грядущие дни.Вся жизнь общества становится пустой самопрезентацией. Фактически не создаются ни политические партии, ни предприятия, а скорее концепций партий и предприятий. Кстати, самая реальная сфера — экономика — моделируется даже больше, чем все остальные. И все же единственная область, в которой этот процесс моделирования может быть действительно полезен, — это культура, поскольку по своей природе она склонна «представлять», создавать образы.
Деревни князя Потемкина конца восемнадцатого века все еще можно рассматривать как преднамеренный обман, но никто не будет идентифицировать наши «презентации» конца двадцатого века как правду или ложь.Это типичные симулякры, которые не претендуют на истинность и поэтому не могут быть названы обманчивыми. Таков переход от «имитации» к «симуляции», показанный на протяжении основных периодов российской истории. Даже советский режим старался поддерживать некоторые презумпции истины за своей явно симулятивной идеологической деятельностью, но теперь, когда коммунисты больше не у власти, никто не следит за событиями, и симулятивная природа цивилизации обнажена. Другое отличие состоит в том, что при коммунизме преобладала категория план , тогда как посткоммунистическое общество отмечает представление , подразумевая, что больше всего моделируется настоящее, а не будущее.«Презентация» в постсоветский период означает парадоксальное отсутствие присутствия, самой подлинной и осязаемой части реальности, которая окончательно растворяется в мире невозмутимых симулякров.
Подведем итог: на протяжении всей истории России реальность постепенно исчезла. Вся реальность языческой Руси исчезла, когда князь Владимир приказал ввести христианство и быстро крестил весь народ. Точно так же вся реальность Московской Руси исчезла, когда Петр Великий приказал своим гражданам «стать цивилизованными» и сбрить бороды.Вся реальность «царской» России растворилась, когда Ленин и большевики превратили ее в стартовую площадку для коммунистического эксперимента. В конце концов, вся советская действительность рухнула за несколько лет правления Горбачева и Ельцина, уступив место новой, до сих пор неизвестной системе идей. Вероятно, идеи капиталистической экономики и свободного предпринимательства теперь имеют хорошие шансы возобладать в России, хотя они снова остаются чистыми концепциями на фоне голодного и разоренного общества. Лично я уверен, что в конечном итоге Ельцину или другому руководителю удастся создать в России смоделированную рыночную экономику.Реалии в России всегда создавались в умах правящей элиты, но однажды созданные, они навязывались с такой силой и решимостью, что эти идеологические конструкции превратились в гиперреальности.
3.
Следует подчеркнуть, что концептуализм тесно связан не только с системой советской идеологии, но и с глубокими противоречиями российской религиозной идентичности в ее роли как промежуточного звена между Западом и Востоком.Россия расчистила путь посреди двух великих духовных систем, одна из которых исходит из эмпирической реальности и объясняет все кажущиеся иллюзии как свои собственные дела, а другая утверждает, что вся реальность иллюзорна, продукт, сплетенный из разноцветной пелены мира. Майя, которую нужно отбросить, чтобы открыть Абсолютное Ничто. Пришлось совместить эти две крайности даже ценой абсурда — парадокса русского религиозного призвания. Запад осознает свое призвание в формах культа и культуры, разработанных католицизмом и протестантизмом, в их позитивном понимании присутствия Бога и в совокупности земных сущностей, таких как общество, государство, семья, производство, искусство.Само собой разумеется, что все подрывные, оппозиционные движения, от романтизма до экзистенциализма, были направлены против этой позитивности, но, тем не менее, они только подчеркивают фундаментальный факт позитивной религиозности Запада. Восток, с другой стороны, развил самую точную религиозную интуицию Пустоты, определив высший смысл жизни в отказе от всех без исключения позитивностей и в приближении к Ничто, его свободе и безвременью.
Россия до сих пор не сделала выбора между этими глобальными системами или мировоззрениями, но вместо этого объединила их противоречия как в «ортодоксии» с ее отчуждением от мирской культуры, так и в «коммунизме» с его борьбой против «другого». Мир.«Православие претендовало на то, чтобы отложить все мирские занятия, чтобы стремиться к Царству Небесному, но на практике оно слилось с российской государственностью и превратилось в фактический синоним политической лояльности. С другой стороны, утопическая практика« коммунистического строительства », утверждал материализм как свой высший принцип, но на практике разрушал материю, снова и снова погружаясь в тот самый идеализм, который он так жестоко отвергал в теории. Эта закрытая система самоотрицания полностью сознательно разыгрывается в концептуализме, который, таким образом, проливает свет, по крайней мере частично, на тайну религиозного призвания России.
Я процитирую Илью Кабакова, ведущего художника и теоретика современного российского концептуализма, чье видение изображает его родную страну как огромный резервуар пустоты, который поглощает и растворяет все осязаемые составляющие реальности:
Каждый живущий здесь человек живет осознанно. или нет, на двух планах: 1. в плане его отношений с другими людьми и природой, и 2. в плане его отношений с пустотой. Как я уже сказал, эти два самолета находятся в оппозиции.Первая — это «конструктивная» сторона. Второе поглощает и уничтожает первое. На уровне повседневной жизни этот раскол, это раздвоение, эта фатальная несмежность 1-го и 2-го планов переживается как чувство всеобщего разрушения, бесполезности, дислокации и безнадежности во всем; что бы человек ни делал, строит ли он или берется за какую-то другую задачу, он во всем ощущает чувство непостоянства, нелепости и хрупкости. Эта жизнь на двух планах вызывает у каждого без исключения обитателя пустоты особый невроз и психоз.
Хотя Кабаков подчеркивает противопоставление «созидательного» и «деструктивного» импульсов в русской культуре, из его описания ясно, что они по сути являются одним целым. Любой объект деконструируется в самом процессе его конструирования. В России «ничто» «выявляется не в своей изначальной и чистой,« восточной »пустоте, а как самоуничтожение позитивной формы, часто заимствованной с Запада. Бесполезность самой позитивности, которая, тем не менее, должна оставаться позитивной, чтобы чтобы снова и снова демонстрировать свою бесполезность, составляет основу российского религиозного опыта.Видимые утверждения скрывают недостаток содержания, отображая при этом внутренне иллюзорное качество. Цивилизация не поддерживается и не уничтожается, но остается свидетельством того, какой может быть цивилизация, когда ее нет: крупномасштабный, очень правдоподобный и впечатляющий симулякр цивилизации.
Потемкинские деревни появились в России не просто как политическая уловка, а как метафизическое разоблачение фальсификации любой позитивной культурной деятельности. Это своего рода внешний вид, который едва скрывает свою обманчивость, но также не разрушает ее каким-либо целенаправленным образом, поскольку майя должна быть уничтожена в восточных традициях.Скорее, он стремится сохранить подобие, которое он никоим образом не намерен обосновывать или восполнять. Промежуточный слой между «есть» и «не есть» образует грань, по которой скользит «волшебное паломничество» русского духа.
Промежуточное расположение этого религиозного опыта, между Востоком и Западом, создает полупризрачные конструкции позитивного мира, которые вечно стоят в лесах, и ветер беспрепятственно дует сквозь них, как вездесущие новые пригороды (новостройки) Москвы, которые поражают иностранцев лихорадочным размахом созидательной деятельности.Эти полуконструкции всем своим видом указывают на то, что они никогда не будут закончены, что они были предприняты даже не для того, чтобы прийти к завершению, а для того, чтобы пребывать в этом благословенном промежутке между «да» и «нет», существованием и небытием. -бытие в царстве застывшего мгновения. Это не пустота уже опустошенного места, такого как пустыня или пустошь, и не завершенность творческих начинаний, таких как башни или шпили, а именно вечное потенциальное и еще не строительство, «давно незавершенное здание». »( долгострой ).Его стены и потолки столь же важны и бережны, как и недостатки и пустоты, которые можно увидеть между ними. Это не только типично «полуразрушенный» русский пейзаж, но и двойственность характера народа. Неявный девиз такой деятельности — «начинать надо, а кончить нельзя»: такова промежуточная позиция свободного русского духа, столь же чуждого восточной созерцательной практике отрицания мира. к энергичному западному этосу мироорганизации.
В самом деле, даже наши города и здания, те, которым удается возникнуть из груд мусора, из заранее приготовленной для них грязной могилы, кажутся ветхими и ветхими. Новенькие постройки вряд ли выживают: в считанные дни они будут сломаны, заклеены листками, забрызганы помоями, они волей-неволей вернутся в состояние строительства.
Конечно, помещать настрой целого народа в узкие рамки «национальной идентичности» довольно рискованно.«Тем не менее, Россия демонстрирует последовательную склонность к созданию позитивных, материальных форм, чтобы подпитывать непрерывный процесс их уничтожения. аннигиляция, так что пустота не должна просто висеть в воздухе как ничто, а скорее должна казаться значительным отсутствием определенных элементов, необходимых для цивилизации.
Илья Кабаков отличает русский концептуализм от его западного аналога, указывая на пустоту как на высшее означаемое из всех означающих.На Западе концептуализм подменяет «одно за другое» — реальный объект для его словесного описания. Но в России объект, который следовало бы заменить, просто отсутствует.
В отличие от Запада принцип «одно вместо другого» не существует и не действует, прежде всего потому, что в этом биноме окончательный, ясный второй элемент, этот «другой» не существует. У нас это как будто вынули из уравнения, его просто нет. /. . ./ Получается поразительный парадокс, чушь: вещи, идеи, факты неизбежно с большим усилием вступают в прямой контакт с неясным, неопределенным, по сути, с пустотой. Эта смежность, близость, трогательность, соприкосновение ни с чем, пустота составляет, как мы чувствуем, основную особенность «русского концептуализма». . . ./I/t похоже на что-то, что висит в воздухе, самостоятельная вещь, как фантастическая конструкция, ни к чему не подключенная, с корнями в ничто. . . . Итак, мы можем сказать, что наше собственное местное мышление с самого начала можно было бы назвать «концептуализмом».
4.
Почти все исследователи постмодернизма называют Америку страной чудес, в которой фантазии становятся более реальными, чем сама реальность. Однако Америка не одинока в этом. Россия, в отличие от остальной Европы, также развивалась как мечта, воплощенная в реальность. Любопытно, что когда Никита Хрущев приехал в США в 1959 году, одним из первых, что он хотел увидеть, был Диснейленд. Я предполагаю, что он хотел узнать, удалось ли американцам создать столь же совершенную симуляцию реальности, как советская модель, в которой сам Хрущев и все его предшественники, как цари, так и генеральные секретари, были такими умелыми мастерами.
Есть множество режимов производства реальности. Одна из них — идеократия советского образца, которая процветала на марксистских основах и осуждала все другие идеологии как мистификации. Другой пример — это психосинтез в американском стиле, который включает в себя всеобъемлющую систему средств массовой информации и рекламы, которая процветает на прагматических принципах организационной психологии, утверждая, что осуждает все типы бредового сознания.
Таким образом, советские явления можно оценить как не менее постмодернистские, чем американские.Верно, что постмодернистское самосознание советской реальности возникло позже, чем параллельные философские разработки на Западе. Тем не менее уже в середине семидесятых годов концептуальное искусство и литература с их всесторонним переосмыслением всего феномена советской цивилизации становились все более популярными в Советском Союзе. В отличие от реалистической литературы типа произведений Солженицына, концептуализм не пытается опровергнуть ложь советской идеологии (переход от ложных идей к подлинной реальности), а в отличие от метафизической поэзии типа произведений Бродского — не пытается. отворачиваться от советской действительности в поисках более высоких и чистых миров (переход от ложной реальности к подлинным идеям).Концептуальная живопись и письмо, представленные работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова, Всеволода Некрасова, Льва Рубинштейна и Владимира Сорокина, передают идеи как единственную истинную сущность советского образа жизни. Как это ни парадоксально, ложные идеи составляют суть этой подлинной реальности.
Что такое советское концептуальное искусство и почему оно так названо? Прежде всего, одна философская параллель, хотя и далекая в хронологическом смысле, может пролить свет. Как школа средневековой философии, вопреки реализму, концептуализм предполагал, что концепции являются самодостаточными ментальными сущностями, которые необходимо отличать от внешней реальности.На протяжении всего нового средневековья двадцатого века концептуализм занимал аналогичную критическую позицию, осуждая основные реалистические иллюзии советской схоластики, ее отождествление идей с материальной реальностью. С концептуальной точки зрения концепции имеют свою собственную сферу существования в идеологическом сознании, которая существенно отличается от реальности, постулируемой реалистической философией или, в случае Советского Союза, материалистической идеологией.
Обращаясь непосредственно к концептуализму в русском искусстве и литературе, мы обнаруживаем, что традиционно любое произведение может быть упрощенно сведено к некоторой общей этической или политической концепции.Например, Анна Каренина можно свести к морали, например: «Женщина никогда не должна изменять своему мужу: она получила по заслугам». Конечно, всех возмущают такие грубые упрощения великих литературных произведений, но в советское время литература все чаще становилась не чем иным, как художественной иллюстрацией таких простых идей. Таким образом, одна из «концепций» Пригова представляет собой следующую психологическую схему, которая могла бы представлять концептуальные рамки как Анна Каренина , так и, например, строительного романа Федора Гладкова в стиле классического соцреализма Цемент (1925), а также множество других рассказов.
. . . И вышла замуж за генерала. Он, возвращаясь из заграничных путешествий, встречает ее, теперь уже зрелую и мудрую, и его холодное сердце согревается, но ее сердце теперь, как кусок мрамора, бесстрастно. Он носится туда-сюда, бросается в ванну, наполненную льдом, но слишком поздно! слишком поздно! его сердце все окружено адским пламенем, все! и он сжигает лед и свою плоть дотла! если бы только у него была сила зажечь ее холодное сердце! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! Ему остается только СМЕРТЬ!
Повествование сводится к максимально упрощенной схеме и становится простой концепцией повествования, демонстрацией идеологического кода или словарём литературных мотивов.Концептуалисты охотно разрабатывают такие общие темы, как «коммунист преодолевает свои внутренние сомнения и смело ведет товарищей к повышению производительности труда». Поскольку ни один уважающий себя советский писатель не ограничился бы такими трюизмами, он или она очень постарались бы описать этого коммуниста и его товарищей как реальных людей, со многими правдоподобными деталями, включая их слабости и личные слабости. Тем не менее, этот персонаж по сути остается лишь проводником какой-то заранее определенной идеи или идеологического постулата.Концептуалисты уловили и разоблачили искусственную природу не только советской литературы, но и самой советской действительности. Их работы не могут быть сведены к до концепций только потому, что они сознательно и принципиально вывели из них . Намерение художественного произведения продвигается до произведения и даже вместо него. Концептуалисты не пытаются представить правдоподобные иллюстрации своих идей, а скорее стремятся передать их намеренно схематично, используя самый обычный и упрощенный язык.Они создают отличных произведений из плохих произведений искусства, которые намеренно и часто мастерски имитируют типичный советский диапазон идей. Классическая русская литература с ее упором на идеологические, моральные и психологические вопросы также является неисчерпаемым источником концептуальных игр. Художественная бедность становится отличительной чертой концептуализма как преднамеренного представления идей, лишенных их материального референта.
Таким образом, концептуалисты оказались первыми русскими постмодернистами, которые перестали противопоставлять реальность и идеи: будь то противопоставление истинной реальности вводящим в заблуждение идеям, как это сделали Солженицын, Шаламов и Гроссман, или высоким идеям низкой реальности, как это сделали наши метафизические и мифологические писатели. .Концептуалисты преодолели и реалистические традиции, и романтические устремления: они понимают, что в нашей стране нет реальности более первичной, чем реальность идей, и поэтому стилизация и пародия на эти идеи стали их основными художественными формами.
В работах концептуалистов все знаки препинания, как правило, опускаются, но если бы они использовались, наиболее часто встречающейся формой были бы кавычки. Воздерживаясь от провозглашения чего-либо от своего имени, концептуалисты просто «повторяют» то, что уже было сказано другими: Пушкиным, Достоевским, Маяковским, или то, что подслушивали соседи в их коммунальной квартире.Постмодернизм — это мир цитат, но это также типично советский мир, где все заявления произносятся либо от имени любимых лидеров, либо от имени заклятых врагов, но никогда как форма самовыражения. При «реальном социализме» все люди должны мыслить безличным, общим образом, как если бы их «собственные» мысли на самом деле были выражением чужих идей. Даже в собственном сознании мысли возникают в форме цитат.
Дмитрий Пригов пишет:
Героями моих стихотворений стали разные языковые пласты (повседневный, государственный, высококультурный, низкокультурный, религиозный и философский), представляющие в рамках поэтических текстов соответствующие ментальности и идеологии, раскрывающиеся в этом космические взаимные амбиции и претензии.. . В наше время постмодернистское сознание вытесняется строго концептуальной виртуальной дистанцией автора от текста (когда внутри текста нет языка для разрешения личных претензий, амбиций или личной идеологии автора, но он, автор, отстраняется и формируется на метатекстовом уровне). . . В результате получается некая квазилирическая поэма, написанная мной под женским именем, когда я, конечно, не занимаюсь мистификацией, а только показываю знак позиции лирического стихотворения, которая в основном связана с женской поэзией.
Конечно, когда Пригов сочиняет стихи от имени женщины, женственность тоже становится понятием.
Самый представительный жанр советской эпохи — это не роман или поэзия, а метатекстуальный дискурс, описывающий культурные коды, такой как энциклопедия или учебник, в которых автор остается анонимным среди общепринятых мнений. Поток времени останавливается, и категории пространства становятся первичными. Остановка времени — общая черта как советской, так и постмодернистской реальности, поскольку они становятся самодостаточными системами, включающими в себя образцовые классические фрагменты предыдущих культур и эпох.Советская культура считалась не преходящим явлением, а накоплением и сокровищницей всех достижений человечества, где Шекспир и Сервантес, Маркс и Толстой, Горький и Маяковский являются не менее ценными участниками пира великих гуманистических идей. Энциклопедия или учебник, сборники цитат или нецитированных, но весьма авторитетных и убедительных суждений — это были наиболее законные и всеобъемлющие формы «коллективного» мышления, процветавшего в сталинские времена.
Стирание метанарративов — еще одна важная черта постмодернизма, заслуживающая объяснения. В случае с советским опытом у нас был бесспорно марксистский метанарратив. Существует распространенное, хотя и ошибочное мнение, что марксистские учения начали растворяться в различных идеологических позициях только во время и после перестройки. По правде говоря, этот распад начался в тот самый момент, когда марксизм был принесен в Россию, и получил дальнейшее развитие, преобразовавшись в так называемый «марксизм-ленинизм» или «советский марксизм».«
Возможно, больше, чем любой другой метанарратив, марксизм полагается на реальность и материальность как на детерминант всех идеологических явлений. Когда это учение пришло в культуру, в которой реальность всегда была функцией могущественного государственного воображения, возникла странная комбинация: материализм как форма и инструмент идеологии. Как это ни парадоксально, марксизм стал катализатором превращения России в огромный Диснейленд, правда, не столько забавный, сколько ужасающий. До большевистской революции не все аспекты материальной жизни моделировались, поэтому оставалось место для подлинных экономических предприятий.Но как только русская идеология ассимилировала материализм, вся материальная жизнь стала продуктом идеологии.
Сами марксистские учения также претерпели парадоксальную трансформацию. С одной стороны, марксизм стал единственной теоретической точкой зрения, официально одобренной советским режимом. Как ни странно, именно по этой причине он расширился, включив в него все другие типы дискурса. Интернационалисты и патриоты, либералы и консерваторы, экзистенциалисты и структуралисты, технократы и экологи притворились подлинными марксистами и прагматично адаптировали «проверенное учение» ко всем разновидностям меняющихся обстоятельств.На Западе марксизм сохранил свою идентичность как метанарратив, давая свою собственную специфическую интерпретацию всех исторических явлений, потому что он свободно оспаривался другими метанарративами (такими как христианство и фрейдизм). В Советском Союзе, однако, марксизм превратился в то, что постмодернисты называют стилизацией, эклектичной смесью всех возможных интерпретаций и взглядов. Как всеобъемлющая доктрина, пронизывающая даже физику и театр, военное дело и детские игры, советский марксизм был высшим достижением постмодерна.
Что касается сближения и интеграции популярной и элитарной культур, то эта тенденция была стимулирована советской культурной политикой всеобщей грамотности и идеологического преследования. С одной стороны, массы упорно и энергично обучались осознанию ценности высоких классических традиций, в то время как основные формы массовых развлечений были запрещены, такие как криминальное чтиво, комиксы, стриптиз в кабаре и т. Д. С другой стороны, так называемые элитарные движения в искусстве и философии, такие как авангардизм и модернизм, сюрреализм и фрейдизм, также были строго запрещены.
Эти попытки гомогенизировать советское общество создали новую культуру посредственности, которая была одинаково далека как от верхних, так и от нижних уровней сильно стратифицированной западной культуры. В Советском Союзе этот средний уровень был установлен даже раньше, чем на Западе, и процесс выравнивания обеспечил почву для постмодернистского развития.
5.
Можно легко предвидеть контраргумент: как мы можем ссылаться на советский постмодернизм без четкой идентификации советского модернизма? На Западе постмодернизм идет вслед за модернизмом, но где соответствующий прогресс в советской культуре?
Очевидно, что русская культура дореволюционного периода была преимущественно модернистской, на что указывают такие направления, как символизм и футуризм.Большевистское движение и вызванная им Октябрьская революция также могут рассматриваться как модернистские явления, поскольку они являются выражением полностью утопического видения. Жестко последовательные стили модернистской эстетики все еще доминировали в 1920-х годах, что, например, убедительно демонстрируют произведения Маяковского и Пильняка.
В этом смысле социалистический реализм, официально провозглашенный в 1934 году, можно рассматривать как по существу постмодернистское направление, призванное уравновесить все противоположности и создать новое пространство для взаимодействия всех возможных стилистических приемов, включая романтические, реалистические и классицистические модели.Андрей Синявский был одним из первых теоретиков, которых поразило это невероятное и эклектичное сочетание различных форм письма в «социалистическом реализме», где, по его мнению, первый член этого выражения противоречит второму:
Сам термин «социалистический реализм» содержит неразрешимое противоречие. Социалистическое, то есть целенаправленное, религиозное искусство не может быть создано литературным методом XIX века, называемым реализмом. А действительно точного изображения жизни невозможно достичь на языке, основанном на телеологических концепциях.. . Они [социалистические реалисты] лгут, маневрируют и пытаются совместить несочетаемое: положительного героя (логически тяготеющего к образцу, аллегории) и психологического анализа характера; возвышенный стиль, декламация и прозаические описания повседневной жизни; высокий идеал с правдивым изображением жизни. Получился омерзительный литературный салат. /. . ./ Это ни классицизм, ни реализм. Это полу-классицизм, полуискусство, не слишком социалистическое и отнюдь не реалистическое.
Социалистический реализм не был особым художественным движением ни в традиционном, ни в модернистском смысле. Его можно адекватно понять только как постмодернистский феномен, как эклектическую смесь всех предшествующих классических стилей или как энциклопедию литературных штампов. Мы должны доверять самоопределению социалистического реализма как единству метода, достигаемому посредством разнообразия стилей: «… [Социалистический реализм рассматривается как новый тип художественного сознания, не ограниченный рамками». одного или даже нескольких способов представления.. . »Социалистический реализм успешно смоделировал все литературные стили, начиная от старинных эпических песен и кончая тонким психологизмом Толстого и футуристической поэтикой плакатов и лозунгов.
В Советском Союзе с 30-х по 50-е годы явно прослеживались постмодернистские тенденции, хотя в то время преобладал термин «антимодернизм», поскольку сталинская эстетика вела яростную борьбу с «гнилым буржуазным модернизмом». Однако антимодернизм по отношению к Западу на самом деле был постмодернизмом по отношению к местной, до- и постреволюционной модернистской культуре.
Как минимум, мы можем обобщить следующие постмодернистские черты социалистического реализма:
1. Создание гиперреальности, которая не является ни истинной, ни ложной, но состоит из идей, которые становятся реальностью для миллионов людей.
2. Борьба с модернизмом как «устаревшим» способом эстетического индивидуализма и лингвистического пуризма.
3. Стирание специфически марксистского дискурса, которое затем
перерождается в стилизацию множества идеологий и философий,
даже сочетает в себе материализм и идеализм.
4. Стирание какого-либо определенного художественного стиля и выход на новый «метадискурсивный» уровень социалистического реализма, сочетающий в себе модели классицизма, романтики, реализма и футуризма.
5. Отказ от «субъективистских» и «наивных» дискурсивных стратегий и переход к «кавычкам» как способу гиперавторства и гиперличности.
6. Стирание противопоставления элитарной и массовой культуры.
7. Попытка построить постисторическое пространство, в котором все великие дискурсы прошлого должны найти свое окончательное решение.
Безусловно, социалистическому реализму не хватает игрового измерения и иронического самосознания, столь типичных для зрелого постмодернизма. Но социалистический реализм — это только первый этап перехода от модернизма к постмодернизму. Социалистический реализм — это постмодернизм с модернистским лицом, которое продолжает носить выражение абсолютной серьезности. Другими словами, русский постмодернизм нельзя полностью отождествить с социалистическим реализмом, но и нельзя от него отделить.
В шестидесятые и семидесятые годы в советской литературе возникла вторая волна модернизма: в литературе, живописи и музыке возродились футуристические, сюрреалистические, абстракционистские и экспрессионистские направления.Эпоха 1920-х годов стала ностальгической моделью этого неомодернистского феномена, о чем свидетельствует творчество писателей Андрея Вознесенского и Василия Аксенова.
Тем более знаменательно, что позже, в семидесятых и восьмидесятых годах, возникла вторая волна постмодернизма, противостоящая «неомодернистскому» поколению шестидесятых. Для таких постмодернистов, как Илья Кабаков, Борис Гройс или Дмитрий Пригов, нет фигур более враждебных, чем Малевич, Хлебников и другие модернисты начала века, не говоря уже о его преемниках шестидесятых, таких как Вознесенский.Следовательно, это явно постмодернистское поколение испытывает своего рода ностальгию именно по типичному советскому образу жизни и искусству социалистического реализма, которое дает им подходящий идеологический материал для их концептуальных работ. Социалистический реализм близок к концептуализму в его антимодернистской позиции: обе формы разделяют весьма условные семиотические устройства, наборы клише и идиом, лишенные какого-либо личного акцента или намеренного самовыражения. Вот почему известные художники-постмодернисты Виталий Комар и Александр Меламид (оба эмигрировали в США в середине 1970-х годов) назвали свой метод «соц-артом»: он полностью ориентирован на социалистический реализм и воспроизводит его. модели в той преувеличенной «мистической» и одновременно иронической манере, которую предвидел Синявский в своем эссе о социалистическом реализме.Например, Сталин появляется на их картинах в окружении либо муз, либо монстров.
Постмодернистская парадигма, компоненты которой более или менее одновременно появились на Западе, в советской культуре созревала гораздо медленнее. Первая волна советского постмодернизма, а именно социалистический реализм, завершила стирание семантических различий между идеей и реальностью, между означающим и означаемым, в то время как синтаксическое взаимодействие этих знаков было эстетически воспринято только второй волной — концептуализмом. .Казалось бы, естественным образом эти два процесса должны совпадать, но советская культура переходила от одной стадии к другой за несколько десятилетий.
Одним из важных факторов является то, что западные культуры с большим уважением относятся к реальности, лежащей за пределами самих знаков. Как только знаки оказывались самодостаточными, они сразу приобретали игривое измерение. Русская культурная традиция гораздо более склонна рассматривать знаки как самостоятельную реальность, заслуживающую большого уважения сама по себе.Поэтому было чрезвычайно трудно принять представление о том, что знаки, заменяющие другую реальность, могут стать объектами иронии и эстетической игры.
Есть два существенных аспекта западного постмодернизма: реальная субстанция постмодернизма и интерпретация этой субстанции в терминах постмодерна. В Советском Союзе эти два аспекта развивались отдельно. Период с тридцатых до пятидесятых стал свидетелем появления постмодернизма как особой культурной «субстанции», включая идеологическое и семиотическое растворение реальности, слияние элитарной и массовой культуры в посредственности и устранение модернистской стилистической чистоты и утонченности.Лишь в конце пятидесятых годов в творчестве таких поэтов, как Холин, Кропивницкий, Всеволод Некрасов, Вилен Барский, а затем в семидесятых годах в произведениях Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и Льва Рубинштейна стало «существенное». «Постмодернизм советской культуры интерпретируется именно в постмодернистских терминах. Знаки героического труда, коллективизма, стремления к коммунистическому будущему и т. Д., Которые раньше воспринимались всерьез как сама означаемая реальность, теперь воспринимались как действительные или реальные только на уровне знака, что делало их восприимчивыми ко всем видам. лингвистических игр.Советский постмодернизм наконец открыл второй аспект и превратился в полноценный культурный феномен, сопоставимый со своим западным аналогом.
Безусловно, такие постмодернистские явления, как рассказы Хорхе Луиса Борге, романы Владимира Набокова и Умберто Эко или модели деконструкции Жака Деррида, оказали значительное влияние на некоторые современные школы советской письменности, включая концептуализм и метареализм. Однако гораздо более поразительно то, что ранняя пост- или антимодернистская фаза советской литературы все еще влияет на современную американскую литературную сцену.Например, недавний манифест Тома Вулфа «Преследование миллиардного зверя» привлек большое внимание своей атакой на модернизм и призывом к социальному роману, который сочетал бы художественную литературу с репортажем. Вулф бессознательно копирует те самые шаблоны, которые идеологи Сталина использовали в своих беспощадных политических тирадах против русского дореволюционного и западного буржуазного модернизма.
Критикуя модернистские и минималистские школы письма, Вулф признает литературные достижения их членов: «Многие из этих писателей были блестящими.Они были виртуозами. » куда они переехали? »Любопытно, насколько точно совпадают цели манифеста Вульфа и советской канонической эстетики: он осуждает« авангардные позиции за пределами реализма ». . ., Абсурдистские романы, романы о магическом реалисте »и множество других методов.Именно так главный идеолог Сталина Андрей Жданов оправдал свою атаку в 1946 году на двух из немногих оставшихся независимых писателей в Советском Союзе, Анну Ахматову и Михаила Зощенко:
Эти произведения могут только сеять печаль, депрессию, пессимизм и попытки уйти от важных проблем общественной жизни, отклонение от широкого пути общественной жизни и деятельности в узкий мир личного опыта. . . жалкие личные чувства и копания в своих мелочах.
Можно легко усилить это суровое обвинение словами, которые Том Вулф обращается к современным неоромантикам или, как он говорит, «неофабулистам»: «Действие, если таковое имело место, имело место в неопределенном месте … у персонажей не было фона. Они пришли из ниоткуда. Они не использовали реалистичную речь. Все, что они сказали, сделали или чем они обладали, не указывало на классовое или этническое происхождение «.
Вульф, вероятно, никогда не слышал, не говоря уже о том, чтобы читать о печально известном разоблачении Андреем Ждановым Ахматовой и Зощенко.Тем не менее, его основные положения и даже выбор метафор те же, что и у Жданова: например, оба сравнивают письмо с инженерией. Вулф также предлагает писателям объединяться в бригады, чтобы объединить свои таланты для исследования удивительной социальной реальности современных Соединенных Штатов, как это было сделано в Советском Союзе 1930-х годов.
Я не иду так далеко, чтобы утверждать, что эстетический код сталинизма напрямую повлиял на писателя постмодерна, такого как Том Вулф. Тем не менее, термины постмодернистской дискуссии одинаково хорошо применимы в таких радикально разных условиях, как Советский Союз в конце 1940-х и США в конце восьмидесятых.Тот факт, что современные советские и западные культуры отражают прошлое друг друга, требует новой теоретической основы для интерпретации этих пересекающихся зависимостей. Стремление к постмодернистскому мировоззрению неизбежно должно привести к противодействию абстрактности и индивидуализму модернистского письма; это также вызывает поворот к сознательно тривиальным, даже стереотипным формам языка, навязанным доминирующим социальным порядком.
Таким образом, постмодернизм можно рассматривать как культурную ориентацию, которая по-разному развивалась как на Западе, так и в Советском Союзе.Западная версия появилась позже в хронологическом порядке, но была более осознанной с теоретической точки зрения. Выделить и идентифицировать постмодернизм западного стиля в русской культуре двадцатого века оказалось трудным, потому что формирование специфически русского постмодернизма разделено на два периода, как я предположил.
Развитие русского модернизма было искусственно остановлено в тридцатые годы, в то время как на Западе оно плавно продолжалось до шестидесятых годов. Этим объясняется существование единого постмодернизма на Западе, в то время как в советской культуре возникли два отдельных постмодернизма: один в тридцатых годах, а другой — в семидесятых.Это обязывает нас не только сравнивать российский постмодернизм с его западным аналогом, но и исследовать две отдельные фазы российского постмодернизма: социалистический реализм и концептуализм. Возможно, именно раскол между ними сделал обе версии столь идейно заряженными, хотя и с противоположными валентностями. Первый постмодернизм явно героический, второй — имплицитно ироничный. Тем не менее, если мы идентифицируем их как два аспекта и два периода одного исторического феномена, эти противоположные тенденции быстро нейтрализуют друг друга, составляя совершенно «пустую стилизацию», если использовать термин Фредерика Джеймсона.Тенденция воспринимать социалистический реализм и концептуализм как взаимно имитирующие аспекты одной и той же культурной парадигмы, несомненно, найдет дальнейшую поддержку в ходе будущих переосмыслений советской истории в целом. Два русских постмодернизма дополняют друг друга и представляют собой более сложное и противоречивое явление, чем западный постмодернизм, сконцентрированный в одном историческом периоде.
ПРИМЕЧАНИЯ
Части этой главы были впервые представлены на конференции Ассоциации современного языка в Сан-Франциско, декабрь 30 г.1991.
Вячеслав Курицын, «Постмодернизм: новая первобытная культура», [Постмодернизм: новая примитивная культура] Новый мир [Новый мир] , 1992, №2: 227, 232.
Конференция по литературному постмодернизму прошла в Литературном институте им. М. Горького (Москва) в апреле 1991 г .; Круглый стол по философскому постмодернизму был организован ведущим московским журналом « Вопросы философии», (труды опубликованы в 1993 г., вып.3: 8-16).
Marquis de Custine, Николаевская Россия (М .: Издательство политической литературы, 1990), 94, 155-156.
Редактор: Александр Иванович Герцен (1812-1870) был выдающимся писателем и публицистом, основателем и редактором либерального общественно-литературного журнала «Полярная звезда » и связанной с ним газеты «Колокол ». Последний был ведущим органом в дебатах о крепостном праве и земельной реформе; он был напечатан за границей, чтобы избежать царской цензуры, и ввозился контрабандой в Россию в 1857-67 годах.
К. Скальковский, ред., Материалы для физиологии русского общества. Маленькая хрестоматия для взрослых. Мнение русских о самих себе (СПб .: Издательство А.С. Суворина, 1904), 106.
Разве не эта «номинальность», эта чистая забота о именах, порождающая зловещую мощь номенклатуры , — тех людей, которые никем не выбираются и никоим образом не заслуживают своего положения, но которых называют «секретарями» , «директор» или «инструктор» и получили власть благодаря этим именам?
О современном русском концептуализме см. Главу 1 «Новые тенденции в русской поэзии».
Федор Достоевский, Notes from Underground, цитируется из перевода Майкла Каца для Norton Critical Edition (Norton: New York and London, 1989), 5 ..
Федор Достоевский, Грубый юноша, Часть I, Глава 8. У Достоевского есть несколько вариаций на тему этого видения, которые глубоко затронули его, например, в «Слабое сердце» (1848), в «Петербургские сны в стихах» и «Петербургские сны в стихах». в прозе (1861) и в набросках к «Дневник писателя » (1873).
Добровольная неоплачиваемая работа в выходные дни, первоначально по субботам.
Дмитрий Пригов. «Образ Рейгана в советской литературе», цитата из перевода Эндрю Вахтеля, в Кент Джонсон и Стивен Эшби, ред., Третья волна: Новая русская поэзия (Анн-Арбор: University of Michigan Press, 1992), 105
Жан Бодрийяр, «Прецессия симулякров», Semiotexte (Нью-Йорк, 1983), 2.
Фиктивные деревни, построенные, по словам иностранцев, по приказу князя Потемкина на маршруте, который он должен был пройти с Екатериной II после аннексии Крыма в 1783 году.Это выражение используется исключительно для обозначения того, что сделано для показа, показной демонстрации, призванной замаскировать неудовлетворительное положение дел, притворства, что все в порядке и т. Д. См. Русско-английский словарь крылатых слов (М .: Русский язык, 1988). , 162.
Ключевой термин в индуистских традициях Индии, примерно обозначающий мир чувственных явлений или космическую иллюзию, мешающую человеку достичь восприятия Абсолюта.
Конечно, это противостояние Востока и Запада редко проявляется в чистом виде, дополняясь внутренним противостоянием в форме неортодоксальных, «еретических» движений.Но тенденция именно такого типа. Альберт Швейцер заключает: «И в индийской, и в европейской мысли утверждение и отрицание мира и жизни сосуществуют бок о бок; однако в индийской мысли последнее преобладает, в европейской мысли — первое». Цитируется из Восток-Запад [Восток-Запад], (М .: Наука, 1988), 214.
Илья Кабаков. На тему «Пустоты», Жизнь мух. Das Leben der Fliegen Kolnischer Kunstverein (издание Cantz, 1992), 233.
Я не придаю никакого оценочного значения терминам «симулякр» и «симуляция». «Симулякр» не лучше и не хуже того, что он имитирует; его природа просто другая.
Илья Кабаков, «Концептуализм в России», Жизнь мух , 247, 249.
Дмитрий Пригов, «Сорок девятая поэма на алфавите», Третья волна. Новая русская поэзия, 107.
Дмитрий Пригов: «Что еще можно сказать?» в Третья волна: Новая русская поэзия, 102.Мы находим подобное предположение со стороны самого молодого из этого поколения концептуалистов, Павла Пепперштейна (род. 1966): «Проблема самовыражения через поэзию никогда особо не волновала меня; меня больше интересовало выявление определенных« поз »культуры. и методы его самостоятельного чтения «. В Третья волна: Новая русская поэзия, 192.
Любопытно, что Пригову удалось превратить собственное имя в литературный замысел. Использование отчества в русском языке обязательно в официальных ситуациях или при обращении к пожилым людям, но Пригов всегда представлялся «Дмитрием Александровичем» и обращался к другим в той же «официальной» манере.То, что звучало бы естественно в устах чиновника или вежливого академика, приобрело дополнительную «пародийную» интонацию по отношению к такой «андеграундной» фигуре, как Пригов. Саморепрезентация Пригова как «Дмитрия Александровича» — пример того, как повседневное общение может быть осмыслено и перенесено на уровень метаязыка.
Абрам Терц (Андрей Синявский), О социалистическом реализме (Нью-Йорк: Pantheon Books, 1960), 90-91. Для самого Синявского внутреннее противоречие социалистического реализма было чем-то, что нужно было разрешить, двигаясь в направлении сознательного и сознательного классицизма, что недалеко от намеренной эксплуатации концептуалистами техники социалистического реализма.С одной стороны, Синявский еще тогда (конец 1950-х гг.) Верил в плодотворность «чистого» художественного направления и называл себя модернистом и представителем фантасмагорического искусства. С другой стороны, настаивая на сознательном развитии советского классицизма и предлагая, чтобы смерть Сталина была окружена религиозными чудесами и что его мощи исцеляли людей, одержимых демонами (с.92), Синявский был первым критиком, который предвидел Советский концептуализм, т.е. второй этап постмодернизма.
Литературный энциклопедический словарь (М .: Советская энциклопедия, 1987), 416.
Социалистический реализм был склонен очень резко и яростно противопоставлять себя авангардизму. Недавняя трактовка их взаимоотношений, содержащаяся в ценной и провокационной книге Бориса Гройса, Всеобщее искусство сталинизма , утверждает противоположную позицию, представляя искусство сталинской эпохи как триумф авангардистского проекта.Социалистический реализм, с этой точки зрения, является «одновременно отраженным и завершенным авангардным демиургизмом» ( The Total Art of Stalinism . Avant-garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond , пер. Чарльза Роугла. Princeton University Press , 1992, 72). С другой стороны, Гройс отождествляет социалистический реализм с постмодернизмом, утверждая, что «… [B] начиная со сталинских лет, по крайней мере, официальная советская культура, советское искусство и советская идеология стали эклектичными, цитирующими,« постмодернистскими ».’»(Там же, 108). Гройс абсолютно прав, указывая на сродство социалистического реализма как с утопическим авангардизмом, так и с постмодернизмом, но важно не смешивать эти два аспекта, как в следующем утверждении:« Утопизм советского идеология состоит как бы в ее постмодерне … »(Там же, 108).
Я бы предположил, что социалистический реализм не является ни авангардистским, ни постмодернистским, а представляет собой длительный переход между двумя эпохами. Утопический проект авангарда, реализованный в сталинские времена, перестает быть утопическим и авангардистским и постепенно переходит в пост-утопическое, а значит, и постмодернистское измерение.Мессианские и трансцендентальные идеи, которые авангард противопоставляет существующей реальности, социалистический реализм представляет как присущие уже трансформированной, «новой» реальности, которую постмодернизм начинает интерпретировать как идеологическое моделирование и «гиперреальность». В этом контексте весь феномен тоталитаризма можно рассматривать как один способ перехода от авангардистской чистоты стиля к постмодернистскому игривому эклектизму . Акцент раннего модернизма на экспериментальной стерильности эстетической формы столь же серьезен, как акцент постмодернизма на эклектике — шутлив.Но почему всеядный эклектизм не может сочетаться с императивом серьезности в одной культурной парадигме? Вот где находится тоталитаризм: как промежуточное звено между модернизмом и постмодернизмом, пытающийся охватить разнообразие стилей и форм и подчинить их единому объединяющему и обязательному замыслу. Серьезная чистота — серьезный эклектизм — игривый эклектизм: эти три стадии можно определить как авангардизм, социалистический реализм и постмодернизм соответственно.
На Западе аналогичный переходный статус можно приписать так называемому «высокому модернизму», который также пытается вытеснить экспериментальную редуктивность раннего модернизма (авангард), объединяя разнообразие стилей, но с определенным смыслом. их трагической несоизмеримости.И высокий модернизм, и социалистический реализм можно квалифицировать как две синхронно развивающиеся (30–50-е годы) формы «серьезного эклектизма», принципиальное расхождение которых происходит в области пафоса. То есть серьезность может иметь два эстетических модуса: героический / оптимистический или трагический / пессимистический. Первый основан на ценности всеобъемлющего и агрессивного коллективизма, второй — на ценности индивидуальности, которая тщетно стремится принять универсальное, но при этом осознает неизбежность экзистенциального отчуждения.Существует определенное родство между такими крупными деятелями советской и западной литературы 30-х годов, как Шолохов и Фолкнер, Платонов и Хемингуэй, Горький и Томас Манн. Стоит отметить, что представители высокого модернизма были встречены советскими критиками гораздо лучше, чем ранние модернисты (авангардисты). Что объединяло советских писателей с высокими модернистами, несмотря на их принципиальные идеологические различия, так это эстетика эклектики, трактованная самым серьезным и этически ответственным образом.Для советских критиков типичным термином, использовавшимся для отнесения высоких модернистов к рядам «прогрессивной» литературы, был «гуманизм», предполагающий, что все эти писатели, советские и западные, были озабочены не чистотой стилистических приемов, как авангард. -гардисты — но с судьбой человечества и его духовным выживанием в эпоху отчуждения. Безусловно, эта гипотеза «серьезного эклектизма» как общего качества социалистического реализма и высокого модернизма и как переходного этапа между серьезной чистотой авангарда и игривой стилизацией постмодернизма требует детальной проработки, которая выведет нас за пределы объем этой книги.
Редактор: Поэт Андрей Вознесенский (1933-) и прозаик Василий Аксенов (1932-) были лидерами поколения 60-х и были связаны с молодежной темой в постсталинской литературе. Им были близки футуристические и абстракционистские тенденции раннего авангарда. Их сравнивают с писателями поколения американских битников.
Том Вулф, «Преследование миллиардного зверя: литературный манифест нового социального романа», Harper’s Magazine. ноябрь 1989 г. с. 50.
Вулф, «Преследование миллиардного зверя», 49.
Редактор: Андрей Александрович Жданов был влиятельным деятелем Коммунистической партии с 1934 по 1948 год. Его послевоенное осуждение поэта Анны Ахматовой и сатирика Михаила Зощенко за якобы отсутствие социальных ценностей в их произведениях сигнализировало о возвращении партийного контроля над обществом. культурная сфера, после сравнительной свободы военных лет.
Доклад т.Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде, ОГИЗ: Государственное издание политической литературы [Отчет товарища Жданова о журналах Star и сокращенный отчет о собрании Ленинграда и краткий отчет о собрании Ленинграда , краткий отчет о собрании Ленинграда , краткий отчет о собрании Ленинграда активистов и на собрании писателей в Ленинграде, Государственное издательство политической литературы] (Москва, 1946), 12, 16-17.
Вулф, «Преследование миллиардного зверя», 49.
Эти вопросы подробно обсуждаются в моей статье «Том Вулф и социальный (ист) реализм», Common Knowledge (Oxford University Press), vol. 1 (1992), нет. 2, 147-160.
Паперный Русская Архитектура
Российская архитектура между анорексией и булимией
Владимир Паперный
Русское зрительное восприятие (если оно есть) сформировано двумя противоположными влияниями.С одной стороны, это естественное влечение к декоративным поверхностям, к богатству красок и форм. Историки говорят нам, что в 10 веке князь Владимир решил обратиться в христианство в основном из-за визуального опыта, который его эмиссары получили в Константинополе: «Греки привели нас в здание, где они поклоняются своему Богу», — писали они князю: «И мы не знали, на небе ли мы или на земле. На земле нет такого великолепия или такой красоты, и мы затрудняемся описать это.”[1]
«Русский дар декоративности хорошо известен», — писал в 1936 году немецкий архитектор Бруно Таут после посещения Москвы. «Для архитектора этот дар был бы опасен, если бы его не держали на поводке» [2]. Ярким архитектурным проявлением такого дара является Покровский собор на Рву (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве. В XIX веке этот дар можно было увидеть в здании Исторического музея, которое Ле Корбюзье в начале 1930-х годов предлагал взорвать.В 90-е годы такое же чувственное отношение к поверхности здания можно найти в так называемом доме Кобзона (см. Фото).
Противоположная тенденция — это глубокое недоверие ко всему, что связано с чувствами, платонический отказ от этого мира ради высшего мира идей. Примером такого отвержения была реакция известного критика религиозного искусства князя Евгения Трубецкого, который после русской иконы взглянул на Рубенса и обнаружил «толстую, дряблую, трясущуюся плоть, наслаждающуюся собой, пожирающую и убивающую ради пожирания. , это именно то, что нужно остановить и оттолкнуть благословляющей рукой.Русская икона, по словам Трубецкого, отличается тем, что провозглашает «внебиологический смысл жизни и конец царству животных». [3]
Реакция Трубецкого отнюдь не была уникальной. Вот что испытал другой русский религиозный мыслитель XIX века, Сергей Булгаков, перед Сикстинской Мадонной Рафаэля. Он был шокирован, обнаружив «мужские чувства, мужскую любовь, мужскую похоть». Он считал, что Русская Церковь очень мудро отвергла «сентиментальность и чувственность».”[4]
Позиция Русской Православной церкви в области иконописи оказала глубокое влияние на многие аспекты творческой деятельности, в том числе на архитектуру. Постановления Синода 1551 года, помимо предупреждений против изображения плоти и вызова плотских чувств, ограничивали деятельность художника копированием старых узоров. Послание было: никогда не используйте свои собственные низшие идеи о том, как изображать Божественные сущности, следуйте утвержденным примерам. [5]
Парадоксально, но сама русская икона представляет собой такое богатое сочетание форм, цветов, материалов и фактур, что кажется, что и русские церковные деятели, и немецкий архитектор-экспрессионист боролись с одним и тем же национальным «даром декоративности».”
Это двойственное отношение к плоти напоминает анорексическое / булимическое отношение к еде. Кажется, что русские одержимы плотью, стыдятся этого увлечения и готовы принять наказание. Это мотив почти каждого романа Достоевского, особенно Идиот и Братья Карамазовы . Современная психология предлагает широкий спектр теорий расстройств пищевого поведения. Однако есть несколько общих тем. Расстройства пищевого поведения связаны с самонаказанием, они подразумевают желание доставить удовольствие интернализованному родителю и представляют собой тревогу по поводу перспективы взрослой жизни и независимости.[6] Все три темы имеют прямое отношение к развитию российской культуры. Всю историю русской архитектуры можно рассматривать как историю попыток примирить эти две противоречивые черты, либо найти высшее оправдание празднику форм и цветов, либо отвергнуть одно ради другого.
В 1817 году российское правительство провело архитектурный конкурс на строительство Храма Христа Спасителя в Москве в ознаменование победы над Наполеоном. Победителем стал 30-летний художник Александр Витберг, имевший очень небольшой архитектурный опыт.Он выбрал Воробьевы горы, где сейчас расположен 32-этажный Московский университет. Его проект имел две общие черты с конкурсными работами известных архитекторов Джакомо Кваренги и Андрея Воронихина: все три явно принадлежали к классицизму и все три были увенчаны куполами. Что отличает проект Витберга, так это сильное чувство символизма. Строение должно было состоять из трех частей: нижняя часть представляла собой параллелепипед, символизирующий тело, наверху находился куб, представляющий душу, и, наконец, цилиндр с куполом, символизирующий Святого Духа.Возможно, причина, по которой было выбрано предложение Витберга, заключалась не в его архитектурных достоинствах, а скорее в его дуализме: формы использовались как ссылка на царство идей. Не следует забывать, что организацией, проводившей конкурс, было Министерство по делам духовенства .
Спустя столетие почти такая же символика появилась в предложении Владимира Татлина о памятнике Третьему Интернационалу, где куб должен был вместить законодательный орган, пирамида — исполнительная власть, а цилиндр — средства массовой информации.Этот символизм претерпел еще одну трансформацию два десятилетия спустя в дизайне Дворца Советов Иофана-Гельфрейха-Щуко, где нижний уровень олицетворял «предшественников коммунизма», средний уровень, учение Маркса и Энгельса, а от них — зрителя. взор, по мнению авторов, «обратился бы к статуе Ленина, венчающему здание».
Ни один из трех проектов — собор Витберга, памятник Татлину или Дворец Советов — не был и даже не мог быть реализован.Собор Витберга должен был иметь высоту 230 метров, в то время как самое высокое здание того времени, собор Святого Петра в Риме, было всего 141 метр. Царь Николай I учредил архитектурную комиссию для исследования осуществимости проекта Витберга, и вердикт комиссии был «невыполнимым». Витберга обвинили в хищении денежных средств, ошибочно признали виновным и остаток жизни он провел в ссылке в Сибири.
Памятник Владимиру Татлину современный критик охарактеризовал так: «Меньше всего ты должен стоять и сидеть там, тебя должно толкать вверх и вниз, притягивая против твоей воли.[7] В этом описании есть что-то, что напоминает легендарный Лабиринт: «Знаменитый строитель, Дедал, проектирует, а затем строит этот лабиринт. Он обманывает глаз множеством извилистых дорожек, которые удваиваются назад. . . . Чистый Меандр любит плавать взад и вперед »[8]. Как будто бы завершая аналогию, Татлин, потеряв благодать во время« высокого сталинизма », провел остаток своей жизни, работая над летательным аппаратом в своей студии. находится в колокольне Ново-Девичьего монастыря в Москве.Татлин, как и некоторые другие русские архитекторы-авангардисты, пришел в архитектуру из иконописи, и работа на колокольне должна была быть для него вполне естественной. Летательный аппарат Letatlin никогда не летал. Так же, как Монумент или Собор Витберга, речь шла о формах и символах, а не о структурной инженерии, аэродинамике или анализе затрат.
Храм Христа Спасителя был построен в 1883 году — другим архитектором (Константин Тон) и на другом месте (Пречистенская набережная) в другом стиле, который можно условно определить как псевдорусское возрождение.Евгения Трубецкого, как и следовало ожидать, не впечатлило: «Архитекторы, лишенные вдохновения и понимания смысла церковного строительства, всегда заменяют духовные элементы декоративными <...> Типичный пример такой дорогостоящей нелепости — Храм Христа Спасителя, который похож на огромный самовар, вокруг которого весело собралась вся патриархальная Москва »[9]
В 1930-е гг. Собор снесли, чтобы освободить место для Дворца Советов.Борис Иофан, Владимир Гельфрейх и Владимир Щуко не вышли из моды, но их проект все равно не завершен. Некоторые архитекторы предположили, что это не могло быть построено из-за структурных проблем с огромным куполом, встроенным в здание. Первые шестнадцать этажей его металлической конструкции были снесены во время Второй мировой войны. В 1960-х годах фундамент превратили в бассейн. В то время ходили слухи, что религиозные фанатики с снаряжением для подводного плавания затаскивают ничего не подозревающих пловцов под воду, чтобы наказать их за осквернение этого места.В 1990-х годах новые религиозные фанатики заявили, что бассейн, несмотря на намерения строителей, функционировал как гигантская купель для крещения ничего не подозревающих пловцов, поэтому каждый, кто когда-либо плавал в нем, теперь стал христианином. Эта строительная площадка оказалась виновной в том же преступлении, в котором некоторые христианские критики обвиняли Мать Терезу: насильственное крещение.
В конце 1980-х начали появляться проекты восстановления взорванного собора. Самым интересным была идея Юрия Селиверстова восстановить здание как «каркас», пустой металлический контур, чистую идею, символ смирения и покаяния.Я также хотел бы упомянуть свое собственное предложение по воссозданию Дворца Советов в виде надувной прозрачной пластиковой крыши (в форме проекта Иофан-Гельфрейх-Щуко) над бассейном. [10] Моя идея, несмотря на ее игривость, перекликалась с более серьезной идеей Селиверстова: оба были лишены плоти. «Вся патриархальная Москва» (по выражению Трубецкого) с радостью отвергла попытки концептуализма, и собор отреставрировали именно в том виде, в каком он был задуман Тоном.
Псевдорусское возрождение Тонаоказалось предпочтительным стилем в ранние посткоммунистические дни. Модернизм был отвергнут вместе с социализмом и либерализмом. Возможно, стиль Тона воспринимался как символ консерватизма Александра III. Русский постмодернизм не был идентичен своему западному аналогу. Западный постмодернизм был отказом от репрессивных «великих нарративов» [11]. В России постмодернизм стал именно этим: великим нарративом, объединяющей национальной идеей.[12]
Первое, что бросается в глаза наблюдателю новых постмодернистских построек в Москве, — это их низкое архитектурное качество. За очень редким исключением, они не выглядят профессионально. Точно такая же реакция у российских архитектурных критиков [13]. Объяснение может заключаться в своеобразной судьбе модернизма в России. Модернизм здесь отвергали дважды. В начале 1920-х годов модернизм в архитектуре понимался не как метод, а как еще один набор шаблонов для воспроизведения. Избавление от конструктивизма в начале 1930-х годов было воспринято большинством русских архитекторов, а также общественностью как новоприобретенная свобода.
Вторая волна модернистских влияний пришлась на 1960-1970-е годы. Обе волны были слишком короткими, чтобы оставить глубокий след в образе мышления российских архитекторов. Язык модернистской архитектуры никогда не был полностью принят в России. Западный архитектурный постмодернизм не отверг язык современной архитектуры, он просто лишил ее универсалистских претензий. Модернистский язык по-прежнему составляет значительную часть западного постмодернистского словаря. В России полностью отвергли модернизм.Возможно, именно поэтому большинство современных российских зданий выглядят непрофессионально: они похожи на текст, написанный на пишущей машинке с несколькими пропущенными символами.
В России, как показал Григорий Ревзин, профессия архитектора была нововведением Петра Великого. Традиционное церковное строительство (как и иконопись) в значительной степени ограничивалось тиражированием утвержденных старых образцов. «В России, — пишет Ревзин, — статус архитектора как профессии зависел от его отхода от древнерусской традиции.”[14]
Булимический аппетит к русским традициям 1990-х годов можно рассматривать как отход от профессиональной взрослой жизни. Следующим шагом, видимо, будет поиск очередного духовного оправдания нового праздника форм и форм. Призыв Бориса Ельцина найти новую «объединяющую национальную идею», возможно, является первым шагом в этом направлении.
Список литературы
1. Джеймс Х. Биллингтон, Икона и топор . Винтажные книги, 1966, стр.7.
2. Из машинописной русской рукописи, присланной Бруно Тау своим российским коллегам, РГАЛИ , ф. 674, указ. 2, изд. хр. 21, л. 267.
3. Евгений Трубецкой, «Умозрение в красках», Философия русского релогиозного искусства XVII-XX вв. ., Москва, Прогресс-Культура, 1993, с. 208.
4. Цит. По: Леонид Успенский, «На пути к единству», Философия русского релогиозного искусства XVII-XX вв. ., Москва, Прогресс-Культура, 1993, с. 365.
5. «От своего замышления ничтож претвориати, от самого себя и своими догадками Бога не описывать». Цит. По: Леонид Успенский. Московские соборы XVI века и их роль в церковном искусстве. 325.
6. «Расстройства пищевого поведения», Письмо о психическом здоровье Гарварда , октябрь и ноябрь 1997 г., www.mentalhealth.com/mag1/1997/h97-eat1.html.
7. Н. Н. Пунин, «О памятниках», Искусство коммуны, , 19 марта 1919 г.
8. Метаморфозы Овидия, перевод Аллена Мандельбаума, Сборник урожая, 1993, с. 253
9. Евгений Трубецкой, «Два мира в древнерусской иконописи», Философия русского релогиозного искусства XVII-XX вв. . М .: Прогресс-Культура, 1993, с. 242
10. Это была запись на выставку проектных предложений по сохранению коммунистических памятников, спонсируемую Комаром и Меламидом.
11. Жан-Франсуа Лиотар, Состояние постмодерна: отчет о знаниях. University of Minnesota Press, 1997, стр. 37.
12. Григорий Ревзин, «Постмодернизм как культура два», Новая газета, , 25 января 1997 г.
13. См., Например: там же, с.1.
14. Григорий Ревзин, «Русский стиль» и профессиональные традиции », Проект Россия , № 3, 1996, с. 22.
(PDF) Социалистический постмодернизм.Пример позднесоветской архитектуры Литвы
65
Мартинас Манкус, Социалистический постмодернизм. Пример позднесоветской архитектуры Литвы
Архитектура и градостроительство
2017/13
Самобытная местная архитектура межвоенного модернизма. Постмодернистская архитектура
в Каунасе может быть выделена как особый случай,
, который, помимо других влияний, ссылается на подлинное историческое наследие города
.Интерпретации межвоенной архитектуры
можно заметить в замечательном количестве дизайнов Каунасского ар-
хитектов. Например, здание самоуправления города Алитуса
по проекту Саулюса Юшкиса (1985–1986, реализовано в 1987–
1989, (рис. 6)) демонстрирует традиционную композицию комплекса (объект
образует регулярный мини -квартал города) и моделирование
строительных пластиков (графика фасадов, композиция
, содержащая башню, напоминающую башню Витаутаса Великого
, здание Военного музея).Исследователь архитектуры В. Петрушонис
писал об еще одном блестящем образце литовского постмод-
эрнизма — картинной галерее М. Жилинскаса в Каунасе (рис. 7): «когда
Э. Милюнас и его друзья проектировали галерею М. Жилинскаса.
лери до восстановления Независимости, это было молчаливое сопротивление —
танс — его умеренная монументальность была призвана подчеркнуть
величие нашей нации »[23, 24]. Вопрос о сопротивлении как
культурном уровне в архитектуре довольно сложен, хотя
можно констатировать, что в последние советские годы было найдено место
для определенной диссидентской практики.Анализируя такие практики в различных идеологических контекстах, историк архитектуры И. Вейцман
констатировал: «Во время холодной войны архитектурное несогласие было выражено отказом участвовать в государственных проектах, нарушением норм
. и язык доминирующей архитектуры, или отступление
в частную область бумажной архитектуры или подпольной образовательной практики
»[24, 109].
Различая тенденции советизации и национальности в
архитектуре советского периода, возникает вопрос об оценке
.Историк архитектуры М. Дрэмайте, оценивая архитектуру Вильнюса
второй половины ХХ века, отмечает: «
не только сложно, но и немного некорректно смотреть на нее через бинарную линзу оппозиции
. Советизма — национальная идентичность Литвы
[…] при таком идеологизированном подходе исчезает критерий архитектурного качества архитектуры
»[25, 103]. Архитектурное наследие
этого периода интересно прежде всего гибридным слиянием тенденций
советизма и национализма.
con cL us Io n
Постмодернистская архитектура в Советской Литве была результатом
сложных и неоднозначных обстоятельств и амбиций. С одной стороны,
, очевидно, был импортным продуктом, рожденным за пределами советской среды
. С другой стороны, это глобальное явление
культуры и архитектуры служило, помимо прочего,
локальным инструментом выражения. Внимание к контексту, истории, феноменологии места было связано с
осознанием цели окружающей среде и прошлому.
Архитектура постмодернизма предложила альтернативу
Модернизм не только в аспекте эстетико-стилистического выражения,
, но также как социальное и культурное стремление улучшить урбанизированную среду
и попытаться найти выражение, находящее отклик. национальная идентичность
. Такие тенденции регионализма и контекстуализма
проявились в сложных обстоятельствах на фоне поиска
советской идеологии (национальной по форме, но социалистической по своей форме) и национальной идентичности (поиск традиционных ценностей как нации). эмансипация), и таким образом определила культурно-стилистическую гибридность архитектуры.
ссылки
1. Jencks, Ch. Язык постмодернистской архитектуры. Нью-Йорк: Риццоли,
1977, 204 стр.
2. Клотц, Х. История постмодернистской архитектуры. Кембридж и Лондон —
дон: MIT Press, 1988, 478 стр.
3. Джеймсон, Ф. Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма.
Дарем, Северная Каролина: издательство Duke University Press, 1990, 461 стр.
4. Петрул, V. Politika architektūroje: reiškinio prielaidos sovietmečio Lietu-
voje.Darbai ir dienos. 2007 (48), пл. 101–118.
5. Юрчак, А. Все было навсегда, пока этого не было. Princeton:
Princeton University Press, 2005, 352 стр.
6. Чакрабарти, Д. Провинциализация Европы: постколониальные мысли и исторические различия. Princeton: Princeton University Press, 2000, 336 стр.
7. Риттер К., Шапиро-Обермайр Э., Вахтер А. Советский модернизм 1955–
1991: Неизвестная история (Arhitekturzentrum Wien, ed.). Цюрих: Парк
Книг, 2012, 360 стр.
8. Социалистический реализм и социалистический модернизм: предложения всемирного наследия
из Центральной и Восточной Европы. ИКОМОС — Журнал Немецкого национального комитета
VIII. Берлин: Хендрик Бесслер Верлаг, 2013, 144 с.
9. Дремайте, М. Балтийский модернизм: архитектура и жилищное строительство в советской эпохе
Литва. Берлин: Издательство DOM, 2017, 250 с.
10. Милериус Н. Точка разрыва: от советского к постсоветскому городу [онлайн].
АРХИТЕКТУРА [публикация] ФОНД [цитировано 12.09.2017]. http: // www.
archfondas.lt/leidiniu/alf-03/ese/nerijus-milerius
11. Хирт, А.С. Пейзажи постмодернизма: изменения в строительной ткани
Белграда и Сони после конца социализма. Городская география. 29,
Выпуск 8, 2008. С. 785–810. http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.29.8.785.
12. Хирт, А. С. Железные занавеси: ворота, окраина и приватизация пространства в
постсоциалистическом городе.Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 254 с.
13. Города после социализма: городские и региональные изменения и конфликты в
постсоциалистических обществах (Г. Андруш, М. Харло, И. Селеньи, ред.). Mal-
den, MA: Blackwell, 1996. 356 p.
14. Городская мозаика постсоциалистической Европы: Пространство, Институт и политика
(С.Ценкова, З. Недович-Будич, ред.). Гейдельберг: Физика, 2006, 390 с.
15. Баравыкас, Г. Вакару веяй. Крантай, 1990 ковас, н.15. С. 10–14.
16. Бауман, З. Законодатели и переводчики: О модернизме
тыс., Постмодерне и интеллектуалах. Кембридж, Великобритания: Pol-
ity Press; Oxford: Совместно с Б. Блэквеллом, 1987,
209 с.
17. Постмодернизм и постсоциалистические условия: политизированное искусство в период позднего социализма
(под ред. А. Эрджавека). Беркли, Лос-Анджелес: Университет
Калифорния Press, 2003, 297 стр.
18.Global Modernities (М. Фитхерстоун, С. Лэш, Р. Робертсон, ред.). Thou —
Sand Oaks, CA: Sage, 1995, 304 p.
19. Спивак, Г. Ч. Может ли младший говорить? Марксизм и Интерпретация культуры (К. Нельсон, Л. Гроссберг, ред.) Лондон: Ma cmilla n, 1988,
с. 271–313.
20. Мур, Д. Ч. Я пост- в постколониальном Пост- в постсоветском? К
Глобальная постколониальная критика. PMLA, Vol. 116, No. 1, Специальная тема: Glo-
литературные исследования на балансе (январь., 2001), с. 111–128.
21. Рудовска М. Истекшие памятники: тематические исследования архитектуры архи-
советской эпохи в Латвии через калейдоскоп постколониализма. Студии на
Искусство и архитектура, Vol. 21 / 3-4, 2012, с. 76–93.
22. Материалы Второго съезда Союза архитекторов ЛССР, состоявшегося 14–16 октября 1955 г.,
, LLMA, ф. 87, кв. 1, корп. 442, л. 30.
23. Петрушонис, В. Египтас Кауно-центр. Аркитектас, 1997. Т.5, вып.1,
пл. 22–25.
24. Справочник по теории архитектуры SAGE (Г. К. Крайслер, К. Кэрнс,
Х. Хейнен, ред.). Лондон: Sage, 2012, 753 с.
25. Drėmaitė, M. Sovietmečio paveldas Vilniaus architektūroje: tarp lietuviš-
kumo ir sovietiškumo. Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos
istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas. (А. Бумблаус —
кас, Ш. Лиекис, Г. Поташенко, суд.). Вильнюс: Vilniaus university leidykla,
2009, пл.79 –103.
Без аутентификации
Дата загрузки | 11.01.18 2:10
MO Museum
Постмодернистские инновации в архитектуре 1980-х связаны с молодым поколением литовских архитекторов, чьи работы начали появляться в середине 1970-х годов. Гедиминас Баравикас (1940–1995), который не только активно проектировал и участвовал в местных и международных конкурсах, но также основал отделение молодых архитекторов Союза советских архитекторов Литвы и поощрял широкое участие в архитектуре, считается идейным лидером. этого поколения в Вильнюсе.
Вместе со своими молодыми коллегами Кястутисом Пемпе и Гитисом Рамунисом Баравикас разработал оригинальный проект торгового центра Шешкине в Вильнюсе с 1978 по 1985 год. Комплекс состоял из зданий из красного кирпича, расположенных вокруг частично огороженной площади, с бассейном и часами на ней. центр. В комплексе представлены многочисленные постмодернистские мотивы исторического характера: уникальные галереи второго этажа, поднятые на колоннах, открытые бетонные лестницы и небольшие магазинчики, напоминающие магазины Старого города.Это был новый подход к дизайну, который прямо противоречил планам, используемым в современных зданиях в стиле функционализма.
Пемпе и Рамунис позже много лет работали в творческой группе, одним из первых значительных проектов которых стал Комплекс Государственной автоинспекции в 1985 году. Это продолговатое прямоугольное здание из красного кирпича также отличалось многими элементами постмодернизма: вместо оконных полос, как правило, найденные в модернистских структурах, они возродили использование ритма небольших квадратных окон, ступенчатых акцентов, закругленных углов и внешних лестниц, а также наклонных стеклянных оконцеваний в главном здании.
В 1980-х годах в Каунасе возникла сильная группа молодых архитекторов. Особое внимание привлекла новая композиция и уникальные формы постмодернистских работ Евгения Милюнаса: магазин одежды Rėda (1984), торговый центр Kalniečiai (1981–1988), Художественная галерея Миколаса Жилинскаса (Милюнас, Кестутис Киселюс, Саулюс Юшкис, 1988 ), который считается наиболее ярким примером постмодернистской литовской архитектуры.
Художественная галерея Жилинскаса демонстрирует связь с исторической архитектурой не только в ее отдельных деталях, но и в организационном принципе всего здания, прототипом которого является древний Акрополь в Афинах.Сама галерея становится храмом искусства, ее вход подчеркнут классическим архитектурным акцентом: мотивом портика. Žmogus (Man, 1986), скульптура Петраса Мазураса, изображающая обнаженную мужскую фигуру, стоящую перед входом в галерею, вызвала некоторый ужас у жителей Каунаса своей «непристойностью». В знак солидарности с работой Мазураса архитекторы здания организовали демонстрацию, сняв одежду и сфотографировавшись рядом со скульптурой. Фотография либо исчезла, либо навсегда скрыта от всеобщего обозрения.
В 1985 году в Каунасе возник Дом-интернат для ветеранов войны (ныне известный как Дом престарелых Панемуне), спроектированный другим молодым архитектором, Альгимантасом Канчасом, с использованием фрагментированных объемов, геометрических форм и исторических ссылок. Канчас деликатно интегрировал здание из красного кирпича, его закрытый двор и декоративные элементы в окружающий природный ландшафт.
Молодые постмодернисты Вильнюса также использовали тонкий дизайн для проектов в исторических частях города, особенно в Старом городе.Ярчайшим примером такого подхода было Лабораторное здание Института реставрации памятников (сегодня Центр культурного наследия, спроектированный Альфредасом Тримонисом, Аудрюсом Амбрасасом и Гинтаутасом Алдисом в 1989–1990 годах). Их работы демонстрируют стремление гармонично вписать модные в то время формы в окружающий Старый город: треугольный стеклянный эркер, фронтоны и украшенный цоколь. Кафе здания и его постмодернистский интерьер стали модным местом сбора молодежи.
Очевидно, литовские архитекторы в 1980-х годах по-прежнему придавали значение таким вопросам, как региональность, национальная идентичность и уникальность — черты, которые хорошо соответствовали историческим стилям и уникальной интерпретации архитектурного наследия, продвигаемой постмодернизмом. Сложность аранжировки и внимание к контексту и истории города стали общепринятыми. Исторические ссылки можно найти в каждом проекте, представленном в каталоге Института планирования городского хозяйства за 1988 год, в котором представлены
молодых архитекторов.Важной чертой литовского постмодернизма является его продолжение в 1990-е годы после восстановления независимости Литвы.Литовский рынок вскоре заполонили новые продукты, цвета и непроверенные материалы, внедрение которых в архитектурные проекты стало настоящей проблемой. Новые статусные символы частной собственности — банки, офисы, магазины — продемонстрировали плоды посеянных ранее постмодернистских семян, и началось новое соревнование деталей, материалов, орнамента, оригинальности и роскоши интерьера.
Наиболее ярким примером этого переходного периода является Hermis Bank (Pempė, Ramunis, 1995), первое здание частного банка в постсоветском Вильнюсе.Его солидность и богатство отражались в главном, постмодернистском фасаде: полукруглый стеклянный эркер, треугольный фронтон с неоновыми «солнечными» лучами, высокий цоколь, отделанный гранитом, большие массивные карнизы и окна между вертикальными пилястрами. Здание казалось декларацией того, что после многих лет советской оккупации Литва, наконец, получит высококачественное строительство с использованием новых технологий и материалов.
Еще одно памятное строение — комплекс Centrum (Пемпе, Рамунис, Кястутис Киселиюс, Альгимантас Плючас, Артурас Асаускас, 1997), совокупность коммерческих и гостиничных построек.В дизайне экстерьера и интерьера преобладали постмодернистские детали: «античные» карнизы, изогнутый объем ротонды главного входа и др.
Архитекторы Саулюс Шаркинас и Леонидас Меркинас уже начали проектировать дом и музей художника Казимираса Чоромскиса в 1986 году, до возрождения Литвы как независимой страны, включив в план две разные эпохи: остатки оригинального неоготического здания XIX века. присоединился к новой структуре с использованием постмодернистских деталей и композиционных приемов.Советское правительство обещало построить музей и галерею вместе со студией и земельным участком для сада скульптур для известного литовского художника-эмигранта, который подарил Литовскому художественному музею почти 500 произведений из своей личной коллекции, но здание был завершен только в 1995 году, после распада Советского Союза. Таким образом, многие идеи были перенесены из 1980-х годов в архитектуру новой независимой Литвы.
Стремление достичь мировых архитектурных стандартов в Литве стимулировало творчество нового поколения архитекторов, а также новые интерпретации исторических архитектурных форм и идей.Хотя литовскому постмодернизму, возможно, не хватало иронии, дерзости или непочтительного «чрезмерного использования» исторических отсылок своего западного аналога, это движение прочно укоренилось к концу 1980-х годов. К 1990-м годам, по мере ускорения перехода от советской экономики к свободной рыночной экономике, новые формы самовыражения и идентичности также были исследованы с помощью постмодернистских подходов.
Новые взгляды на постсоветскую культуру
Предисловие к первому изданию
Томас Эпштейн
Предисловие ко 2-му изданию: Постмодернизм и взрывной стиль XXI века
Михаил Эпштейн
Введение: «Новое сектантство» и принцип удовольствия в постмодернистской русской культуре
Слободанка Владив-Гловер
ЧАСТЬ I: СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА
Глава 1. Диалектика гипер: от модернизма к постмодернизму
Михаил Эпштейн
Глава 2. Постмодернизм, коммунизм и соц-арт
Михаил Эпштейн
Глава 3. Изображение Другого в литературе 1960-х годов
Слободанка Владив-Гловер
Глава 4. Перестройка как смена литературной парадигмы
Александр Генис
ЧАСТЬ II: ПРОЯВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА
Литературные манифесты
Михаил Эпштейн
Глава 5. Тезисы о метареализме и концептуализме (1983)
Глава 6. Об Ольге Седаковой и Льве Рубинштейне (1984)
Глава 7. Что такое метареализм? Факты и гипотезы (1986)
Глава 8. Что такое Metabole? О третьем тропе (1986)
Глава 9. Как труп в пустыне: О новой московской поэзии (1987)
Глава 10. Каталог новых стихов (1987)
Культурные манифесты
Михаил Эпштейн
Глава 11. Essayism: An Essay on the Essay (1982)
Chapter 12. Ecology of Thinking (1982)
Chapter 13. Minimal Religion (1982)
Chapter 14. Age of Universalism (1983)
Глава 15. Парадокс ускорения (1985)
ЧАСТЬ III: СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ
Глава 16. Архаический постмодернизм: эстетика Андрея Синявского
Александр Генис
Глава 17. Постмодернизм и соцреализм: от Синявского до Сорокина
Александр Генис
Глава 18. Границы и метаморфозы: Виктор Пелевин в контексте постсоветской литературы
Александр Генис
ЧАСТЬ IV: КОНЦЕПТУАЛИЗМ
Глава 19. Новая модель дискурса в постсоветской фантастике: Людмила Петрушевская и Татьяна Толстая
Слободанка Владив-Гловер
Глава 20. Неоднородность и поставангард: экскрементальная поэтика Владимира Сорокина
Слободанка Владив-Гловер
Глава 21. Пустота как техника: слово и образ у Ильи Кабакова
Михаил Эпштейн
Глава 22. Философские последствия русского концептуализма
Михаил Эпштейн
ЧАСТЬ V: ПОСТМОДЕРНИЗМ И ДУХОВНОСТЬ
Глава 23. Пост-атеизм: от апофатического богословия к «минимальной религии»
Михаил Эпштейн
Глава 24. Лук и капуста: парадигмы современной культуры
Александр Генис
Глава 25. Очарование энтропии и новая сентиментальность
Михаил Эпштейн
Заключение: О месте постмодернизма в постмодерне
Михаил Эпштейн
Выберите библиографию
Указатель имен
Индекс предметов
Возвращение постмодернизма (или, может быть, он никогда не ушел): Design Observer
Есть ли в архитектурном лексиконе более уничижительное слово, чем постмодернизм? Нет стиля более поруганного, даже модернизм.Я узнал об этом из первых рук, изучая работы Филипа Джонсона, и это неоднократно подчеркивалось мне, когда я рассказывал свою историю об истории постмодернизма для (обязательного к прочтению) выпуска «Метрополиса», посвященного 30-летию.
Мы любим ненавидеть постмодернизм, но я не уверен, что ненависть рациональна, особенно постольку, поскольку она стала, как я пишу в статье, «удобным уловом, сразу описывающим момент истории, позицией по отношению к — по сравнению с модернизмом, эстетикой и образом мышления в мире — или их комбинацией.
То, что этот термин сейчас в первую очередь ассоциируется с поношенным стилем, немного иронично, поскольку именно Джонсон, возможно, больше, чем кто-либо, определил архитектуру 20-го века как серию стилей. Таким образом, можно сказать, что он заправил свою кровать, а потом ему пришлось спать в нем. Эта метафора особенно уместна, поскольку есть очень хороший аргумент, что эпицентр архитектурного постмодернизма — это спальня со сводчатым потолком, которую он спроектировал для себя в гостевом доме на его территории в Новом Ханаане.
Отчасти с течением времени постмодернизм становится все более модным предметом архитектурного дискурса. Выставка Джима Стирлинга, спонсируемая Йельским университетом и CCA, во многом вернула репутацию человека, запятнанного ассоциацией постмодерна. Новое крупное шоу о постмодернизме готовится в V&A в Лондоне, и даже здесь, в Нью-Йорке, Cooper-Hewitt, как мне кажется, организует шоу о колониальной архитектуре, что кажется очень постмодернистским проектом. Из издательского мира у нас есть два новых трактата на эту тему: «Призрак утопии» Рейнхольда Мартина (немного теоретически сложный, но стоит затраченных усилий) и «Исторический поворот архитектуры» Хорхе Отеро-Пайло (в моем расписании).
Завершаю свой рассказ упоминанием русского архитектора Саши Бродского, на мой взгляд, одного из самых ярких архитекторов, практикующих сегодня. Думаю, его следовало бы называть постмодернистом. Я бы сказал то же самое о таких фирмах, как Roman and Williams, которые создают пространства, которые кажутся современными или, по крайней мере, современными, даже если они пропитаны историческими деталями. Конечно, их пространства популярны, и это более широкая правда о постмодернизме: хотя мы можем ненавидеть это имя, мы не можем оставаться в стороне.
Архитектура модерна и постмодерна | Study.com
Постмодернизм в архитектуре: Майкл Грейвс
Другие архитекторы, такие как Майкл Грейвс (1934-2015), бывший последователь Ле Корбюзье, сочли этот образ душным и бездушным. К концу жизни Ле Кобюзье небоскребы и жилые дома, такие как дворец Густаво Капанемы, были повсюду и часто выделялись, как бельмо на глазу, на фоне местного колорита городов, которые их окружали. Грейвс отверг идею центральной роли функции в дизайне и приступил к воплощению прихоти и стиля в свои структуры.Он использовал фасады, асимметрию и декоративную отделку в коммерческой архитектуре и создал здания, которые были уникальными и отличались от «бездушного» вида современной архитектуры. Его проекты были неоднозначными, так как многие находили их раздражающими или уродливыми, но он стремился создавать уникальные конструкции, отсылающие к местной культуре, а не к универсальной и космополитической.
Взгляните на его отель Steigenberger в Египте. Это необычное здание оснащено современными удобствами, но форма окон отдает дань уважения архитектуре региона, а бетонный фасад придает конструкции асимметричный и антисовременный вид.
Смешанный стиль: I.M. Pei
В то время как Ле Корбюзье и Грейвс определяют различия между модернизмом и постмодернизмом, есть много фигур, которые не вписываются ни в одну из групп. Такие архитекторы, как И.М. Пей (родился в 1917 году), используют материалы и создают функциональные пространства, но при этом сохраняют местный колорит и уникальный дизайн. Возьмем, к примеру, его дизайн Башни Банка Китая.
Его форма проистекает из функционального дизайна, но его форма и стиль напоминают бамбук, что делает его уникальным для городского пейзажа Гонконга. Это смесь модернизма и постмодернизма в архитектуре. Обратите внимание, что Башня Банка Китая использует асимметрию, которая является особенностью постмодернизма, но в здании не используется фасад или украшение, которые не имеют функции (как Майкл Грейвс с отелем Steigenberger), которые являются чертами модернизма.Декоративный вид опоры пространственного каркаса (крестики, которые делают здание похожим на бамбук) сочетает в себе стремление постмодернизма к созданию уникального дизайна с элегантностью, которая вытекает из функционального назначения каркаса для стабилизации конструкции.